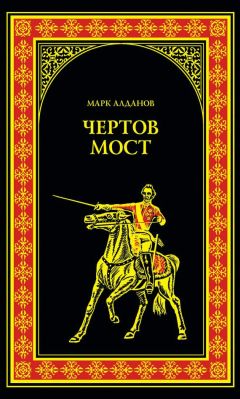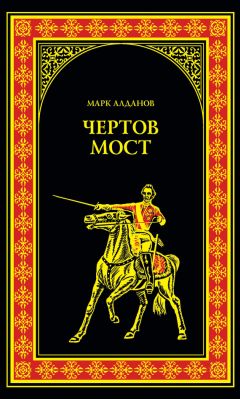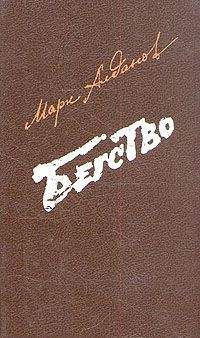Станислав Федотов - Возвращение Амура
– Андрей, ты не знаешь, что случилось с Николаем Николаевичем? – шепотом спросил Вася из-за спины Стадлера.
– Накопилось, – меланхолично отозвался тот. – У него такое и в Туле бывало. Сам не однажды видел. Накажет виновного и – отойдет.
– Так в том-то и дело, что этот староста ни в чем не виноват! Ему из округа указывали – он исполнял. Это же несправедливо!
– Справедливости, Вася, вообще нет, и не нам это менять…
Муравьев приказал дать старосте тридцать плетей, чтобы другим неповадно было, и казаки увели бедолагу. Генерал метался по апартаментам, выделенным ему на почтовой станции, и никак не мог успокоиться. Наконец, приказал запрягать и выезжать на Читу. Занял бричку Стадлера и ехал один, с кучером на козлах, молодые тряслись в тарантасе, чем Вася был очень даже доволен: по крайней мере, надеялся, что никто не помешает поговорить с умным товарищем – Андрей был на семь лет старше, по службе много опытней и знал «дядюшку» еще по Тульской губернии. Однако Стадлер и вообще был не очень-то разговорчив, а тут совсем замкнулся и отделывался односложными ответами, чем весьма разочаровал Василия Михайловича, которого буквально распирало от наплыва не находящих выхода благородных гражданских чувств.
Муравьев всю дорогу до Дарасуна – а это больше сорока верст вдоль юго-восточных отрогов Даурского хребта, встречь течению Ингоды – молчал, глядя в суконную спину ямщика, привезшего Стадлера. Тот что-то напевал себе под нос, не обращая внимания на ездока, и генерал-губернатор угрюмо радовался, что никто не заглядывает ему в лицо, пугаясь мрачного настроения, которое терзало Муравьева с тех минут, когда он среди привезенных бумаг увидел письмо от Катрин и, конечно, первым делом прочитал его. Известие об утрате нерожденного ребенка отозвалось уколом в сердце, но, вообще-то, не так чтобы очень сильно – он еще не успел ощутить себя отцом; умом понимал, что где-то во чреве (какое жутко корявое слово!) его единственной и ненаглядной растет и зреет кто-то совершенно непредставимый, но уже называемый нежно и ласково – дитя; умом понимал, однако любви к нему не испытывал, вполне резонно считая, что всему свое время: вот родится, заплачет или улыбнется, скажет «папа» – тогда и прирастет к сердцу.
Не родится… не улыбнется… не прирастет…
Однако письмо ввергло Николая Николаевича в глубокий омут расстройства, как только он представил себе состояние Катрин, а чтобы представить его, не требовалось никаких усилий – каждая строчка, написанная ее рукой, была пропитана пронзительной болью невосполнимой утраты и собственной вины за эту утрату. В этом омуте он и барахтался, захлебываясь невыразимым сочувствием к страданию любимой и понимая, что никакие слова не уменьшат его сейчас – только время, одно лишь время способно излечить ее измученную душу, да еще, пожалуй, если, даст бог, зародится новое дитя. Вон Волконские потеряли уже родившихся сына и дочь, Трубецкие – двух сыновей и две дочери, но ни Мария Николаевна, ни Екатерина Ивановна не пали духом, а снова и снова принимали дорогое семя и выращивали в себе новую жизнь.
Но к мыслям о времени-лекаре и прекрасном материнском примере Волконской и Трубецкой, обожаемых Катрин, Николай Николаевич пришел уже в пути после Карымского, а вся неприглядная история со старостой случилась до того, именно тогда, когда душа его была истерзана мыслями о несчастной жене и металась в ярости от собственного бессилия – тут и подвернулся бедолага-староста. Нашел, думал генерал, на ком отыграться – не на виновниках, что сидят в округе, в Верхнеудинске, а на жертве. Справедливо – ничего не скажешь! А как теперь исправлять? Хотел же Вася остановить позорище – и Васе досталось. И что за характер такой поганый – налететь, рубануть, а потом разглядывать – кого и за что рубанул – и терзаться, что сделал совсем не то и не так, как надо бы. Ладно, когда исправить можно, пусть даже поступившись гордостью, но восстановив собственную честь, а чем и как вот эту опрометчивость – со старостой – загладить? Э-эх…
2В Читу приехали поздним вечером или ранней ночью – по темноте. Остановились, как обычно, на постоялом дворе при почтовой станции. Генерал-губернатор намерен был повстречаться здесь с декабристом Дмитрием Иринарховичем Завалишиным, о котором был весьма наслышан от Волконских, Трубецких и Муханова с Поджио. Правда, мнения их были далеко не однозначны: в них смешивалось уважение к его знаниям и заслугам, признание личного мужества, достоинства и стойкости перед лицом выпавших на их общую долю испытаний с неприязнью к его высокому самомнению и скандальной категоричности суждений.
– Вам, уважаемый Николай Николаевич, надо обязательно встретиться с этим очень и очень незаурядным человеком, – говорил Сергей Григорьевич Волконский. – Вряд ли кто лучше него знает Забайкальский край, и советы его могут быть весьма полезны. Но будьте осторожны в отношениях: Дмитрий Иринархович злопамятлив и к прощению даже простой забывчивости не склонен. Особенно в отношении своей персоны.
Вполне возможно, думал Муравьев, ворочаясь на неудобной кровати, не самые лучшие отношения Завалишина с товарищами по несчастью имеют причиной обычную несправедливость. Ведь он, ни в каком противоправном обществе не участвуя и в день восстания на Сенатской вообще пребывая в отпуске в Симбирской губернии, тем не менее, был наказан каторгой едва ли не жесточе всех. Поначалу присудили вечную, затем сроки дважды сокращали – до пятнадцати и тринадцати лет с последующим поселением. И вот он уже почти десятилетие живет в захудалой Чите. В чем же причина столь сурового к нему отношения? Ведь сначала Дмитрий Иринархович пробыл под арестом менее двадцати дней и был освобожден, а через полтора месяца неожиданно вновь попал за решетку и тогда уже его раскатали по максимуму. Не за то же, что он, будучи еще мальчишкой-мичманом, написал письмо императору Александру о каком-то «Ордене восстановления»! Письмо это, насколько стало известно Муравьеву, никаких последствий не возымело и вообще история с ним случилась за три года до злосчастного декабря. Муханов Петр Александрович предположил, что виноват брат Дмитрия Иринарховича Ипполит, злой гений многих декабристов: написал на них донос, но и сам, наравне с другими, попал на каторгу. При воспоминании об Ипполите генерал-губернатор поморщился: младший Завалишин и его подставил – имя это было упомянуто в доносе Пятницкого. Так вот, по словам Петра Александровича, этот Ипполит после смерти отца, пользуясь тем, что старший брат два года находился в кругосветном плавании на фрегате «Крейсер», завладел наследным сельцом в Казанской губернии, а далее, желая избавиться от брата-конкурента, мог навалить на него такие измышления, от которых тот не смог очиститься при всем своем старании.
А ведь, наверное, так и было, подумалось Муравьеву. Ради собственности иные люди способны на всяческие мерзости, и примеров тому несть числа. Как хорошо, что у него с братьями ничего подобного даже и в мыслях не возникало! Они с Валерианом привыкли довольствоваться армейским жалованьем, которое скудностью своей приучило их жить по средствам; Александр тоже не роскошествовал на службе гражданской, хотя и пользовался доходом с унаследованного села. Зато теперь все трое живут не то что без обид, но, наоборот, – в родственной любви и согласии.
Мысли Николая Николаевича, оттолкнувшись от образа любви и согласия, прихотливо перевернулись и приземлились на недавнем событии со злосчастным старостой. А от него перескочили на письмо Льва Алексеевича Перовского, привезенное Стадлером в числе других государственных бумаг; генерал, к великому своему сожалению, прочитал его уже после происшествия. Министр словно провидел неприятное событие. «Здесь распускают слухи о вашей вспыльчивости, которая будто выходит часто из дозволенных границ, – писал он, – о поспешности, с которою вы осуждаете людей, прежде чем имели время их узнать или даже выслушать. Нет сомнения, что чиновники, вредные для службы, от которой вы их удалили, суть распространители этих слухов, но не теряйте из вида, что у изгнанных есть здесь всегда покровители, которые готовы вторить своим клиентам и осуждать ваши действия. Я совершенно понимаю ваше положение, вы не любите злоупотреблений, которых во вверенном вам крае бездна, и потому принимаете все к сердцу, но действуйте как можно осмотрительнее, хладнокровнее и отдаляйте всякий повод к нареканиям и жалобам…»
Осмотрительнее… хладнокровнее… Конечно, прав, тысячу раз прав милейший Лев Алексеевич, тут не армия, когда кулаком по морде оборзевшего офицера можно вправить ему мозги. Люди привыкли давать взятки, подносить подарки чиновникам и отучить их от этого можно только постепенно, одновременно отучая самих чиновников брать. Но как же хочется решить все разом – быстро и бесповоротно!..