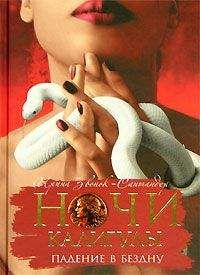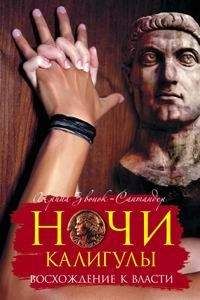Владилен Машковцев - Золотой цветок - одолень
...Отец Лаврентий одобрял громкие чтения писаря на дуване. Священник стал до беспомощности подслеповатым, плохо видел. Он не мог сам прочитать повесть Федора Порошина, хотя брал ее на три дня. Протопоп приходил на чтения вместе с казаками. У него слезы выступали, когда писарь воспроизводил обращение богородицы к дончакам и запорожцам:
— Мужайтесь, казаки, а не ужасайтесь! Се бо град Азов от беззаконных агарен зловерием их обруган. Престол предтечин и Николин осквернен. Торжище тут им нечестиво христианское учинища: разлучища мужей от законных жен, сыны и дщери разлучаху от отцов и матерей!
Речь богородицы вызывала в толпе рыдания. Это выли матери по дочерям своим: Кланьке, Милке Монаховой, Василиске Душегубовой, Малаше Оглодай, Паше Добряковой, которых полонили в степи ордынцы. Каждой матери казалось, что ее дочка-кровинка ушла на страдания с азовского торжища.
Меркульева потрясали в повести токмо картины побоища. Он слышал пальбу пушек, видел подкопы и возведенную турками гору, с которой обстреливалась Азовская крепость. Да и какие там укрепы? Башни и стены рухнули под турецкими пушками, оставались одни развалины, груды камней. Три месяца беспрерывно ходили на приступы басурманы. И потеряли турки девяносто шесть тысяч воев. И не могли они взять жалкие развалины, где сражалась всего одна оставшаяся в живых тысяча израненных казаков!
Голодрань казачья при чтении прислушивалась к другим местам. К тем строчкам, где говорилось про них:
— «А нас на Руси не почитают и за пса смердящего. Отбегаем мы из того государства Московского, от работы вечныя, из холопства невольного, от бояр и дворян государевых...»
На четвертое чтение повести Федора Порошина собралась тьма народу. Приехали казаки из самых дальних станиц и заимок. Сенька сидел на атамановом камне. Ребятишки залезли на плетни, на дерево пыток. Меркульев устроился на водопойной колоде. Слушали чтение внимательно. Сенька останавливался, отвечал степенно на вопросы. Самым интересным для многих было описание взрыва первой басурманской горы. Турки возвели земляную насыпь выше крепости. Медленно, но верно приближались к укрепам вороги. Но казаки совершили вылазку, захватили у басурманов двадцать восемь бочек пороха, сделали подкоп и взорвали гору.
— «Их же побило ею многие тысячи, а к нам их янычей тем нашим подкопным порохом живых в город кинуло тыщу четыреста человек!» — прочитал и замолчал Сенька, ожидая возгласов.
— Не могет быть, что забросило живых, пей мочу кобыл!
— Мабуть, полуживых?
— А егда селитроварня взорвалась, тебя ить, Устин, забросило на дерево пыток.
— Так ведь я, пей мочу кобыл, не помню! Я без памятства на дереве висел. Не упомню.
— И турки не упомнят!
— Ха-ха!
За возгласами, за хохотом казаки не сразу заметили мчащегося к ним через городок всадника.
— Кто это? — встал настороженно Меркульев.
— Емеля Рябой.
— Его кобыла. Но сидит на коне не по-казачьи. Заваливается на левый бок. Мабуть, пьян?
Толпа раздалась мгновенно, пропуская скачущего казака. Он был бледен, изо рта струилась кровь. Глаза совсем остекленели. В спине у него торчали три вонзившиеся стрелы.
— Сгиб в Сухой балке отряд Хорунжего! — хрипло произнес Емельян Рябой, сползая с коня полумертво на руки казаков.
* * *
Ударил в казачьем городке набат. Полетело войско сабельно к Сухой балке. Меркульев прямиком пробил степь с полком. Прохор Соломин слева окружал место. Панюшка Журавлев ухитрялся правее. Но ордынцев и след простыл. Лежали в овраге тридцать девять мертвых казаков. Многие были изрублены глумливо, обезглавлены. Унес Мурза на пике в степь и голову Хорунжего. Не ожидали на Яике дерзкого набега и засады. У Мурзы было всего четыре сотни. Из орды его давно вытеснили. Он вначале служил у кызылбашей, затем перешел изменно к хивинскому хану. И там не ужился, ушел грабить купеческие караваны. Потрепали его на кабульском перевале. На Яик Мурза крался всю весну.
А погубил казаков Хорунжий. Уверился излишне он в силе своей и непобедимости. Все земли в округе трепетали перед его полками. Никто вроде бы не мог осмелиться в поход на Яик. И сняли казаки дозорных с вышек сторожевых. И ходили в степь без боязни малым числом. В отряде Хорунжего, с которым он вышел в дозор, было всего сорок человек. И копытили купно, гоготали громко. Двух-трех всадников, как положено, не усылали впереди себя. Мурза обнаружил с бугра, как шли казаки к Сухой балке. Засада получилась смертельной. Когда отряд русичей опустился в лог, перед ним неожиданно встали из-за камней с четырех сторон лучники. И ударили ордынцы в упор стрелами трижды. И вылетели из-за кустов конники, взяли в кольцо. Микита Бугай зарубил двух воинов, но упал, пробитый ударом пики в спину. Богдан Обдирала вражьи клинки ломал, как прутья сухие. А стрела ему в одно ухо вошла, в другое высунулась. Гаврила Козодой дрался, рыча аки зверь. Но замолк под кривыми саблями. Страшный урон наносили лучники. Один за одним падали казаки. Облился кровью и рухнул с коня Сенька Грищ. Сбросили арканом на камни Потапа Хромого. И рубанули сразу тремя ятаганами. Однорукий Громила Блин и Василь Бондарь пытались загородить Хорунжего, но погибли сразу. Прорубился саблей через вражий заслон один Емельян Рябой, но и ему воткнули в спину три стрелы.
— Скачи, Емеля! Поднимай тревогу! — орал Хорунжий, яростно отбиваясь от наседавших врагов.
Этого воя в позолоченном шеломе ордынцы одолели с превеликим трудом. Он порубил семь лучших батыров. Мурза пробился к Хорунжему и выстрелил в него из пистоля. Пуля царапнула по щеке. Но Хорунжий на мгновение застыл от поразительного дива; у ордынца пистоль! Молодые узкоглазые вои подняли храброго полководца на пики... Мурза подал знак, чтобы есаула бросили к его ногам. И наступил он сапогом на грудь своего давнего непобедимого противника. И отрубил ему голову. Ликования, однако, не было. Больше всего Мурза негодовал, что заслоны упустили из оврага одного казака. Догнать его не удалось. Срывался весь поход, новый замысел о внезапном захвате в полон казачьих юниц. Теперь надо было уносить ноги. И без доброй добычи. Какой там взяток с четырех десятков порубленных казаков? Все богатство — позолоченный, но обшарпанный, побитый саблями шелом Хорунжего. За него не дадут на хорошем базаре и одного динара. Приходилось уходить попусту. Но пришельцы угнали табун коней. На степной заимке попалась им баба. Была она одноглаза, старовата, ликом противна. Не взяли ее ордынцы, побрезговали Хевроньей.
* * *
Гибель Хорунжего с казаками не омрачила пасхальные дни. Так уж устроен мир. Погиб человек, жалеют его. Сочувствуют люди искренне. Одни до слезинки, другие до печального вздоха. Третьи до тяжести. Но режет горе смертельно токмо одну семью погибшего. И в этом здоровая защита живого естества, народа, человечества. Ежели бы все люди воспринимали чужие беды остро, как свои, то давно бы суетились на земле одни звери, животные и насекомые. А человеки бы вымерли от переживаний и болезней. Угас бы род людской.
И выплясывали пасхальные перезвоны церковного колокола. И шел народ после молебна на игрища. В трех загонах на лужайке ревели и бросали копытами землю в облака три ярых быка: красный, пегий и белый. Народ со всех сторон подходил. Старики и бабы с ребятишками, невесты и служилые казаки, юницы.
Кто же осмелится первым нырнуть в загон к быку, схватить его за рога и попытаться свалить? Не каждому сие удается. Иной раз полезет казак к поросу смело, ухватится за кривые бодалы на свою беду. Зверь мотнет башкой, вырвется и проткнет ухарю бок, кишки выпустит, спину сломает. Так вот погибли совсем недавно Антип Комар, Кондрат Волков и Филька Лапша.
За одоление разъяренного быка гольными руками деньги из казны не платили. Пожертвования бросали из толпы в шапку сборщику. Кто уж сколько не пожалеет. Игрища год от году становились шумливее и опасней, потому как могутных казаков оставалось в Яицком городке все меньше и меньше. Где. Илья Коровин? Где Касьян Людоед? Где Микита Бугай? Где Трифон Страхолюдный? Где рыбный атаман Богудай Телегин? Кто же будет хватать быков за рога?
Шинкарь Соломон жаловался, подергивая Меркульева за рукав:
— Неуж неможно придумать что-то? Без вина хиреет торговля. Я узе совсем разорился. Почему вино можно продавать токмо по праздникам?
— У базара своя воля! — отвернулся атаман от шинкаря.
Соломон печально обнял Фариду:
— Пора нам сматывать сети. На Яике мы лишние люди. Жалею, что не похитил с дувана золотое блюдо. Какая-то мерзкая Зоида утопила сокровище в реке. Разве сие справедливо? Я буду страдать из-за этого и через тысячу лет после смерти!
Фарида улыбнулась озорно:
— Ради тебя я могу нырнуть в ятову и достать блюдо.
Писарь привел на игрища свою жену-инородку. Циля была в черном шелковом платье с дорогой накидкой из бобрового меха.