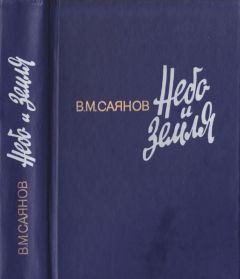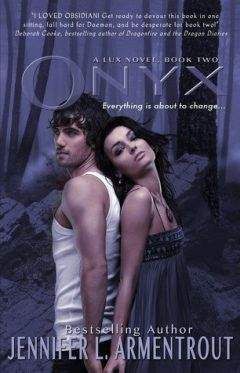Виссарион Саянов - Небо и земля
…Под вечер зашел Васильев, поздоровался с Быковым ласковей, чем обычно.
— Очень рад, что вернулись. День отдохнуть сможете — и опять в небо. Теперь самолетов будет вдосталь…
— Разрешите завтра в город съездить с Глебом Ивановичем.
— Что ж, поезжайте, — сказал Васильев и пошел обратно, к штабному дому. Новенький крестик блестел на его груди.
— За наш бой, — сказал Глеб. — А нас попрекал…
— Самому не заработать, вот и боится со мной плохо обращаться. Знает, если будем в другом отряде, ему же хуже придется…
— Да стоит ли говорить о нем! Теперь, когда мы с Наташей помирились, я о Васильеве и думать перестал.
Прибежал Ваня, потянул Быкова за рукав, смущенно улыбнулся.
— Ты чего? — спросил Быков.
— Нравится мне тут. Весело, право. Я обязательно завтра с тобой полечу.
— Завтра лететь не придется. Я в город с Глебом Ивановичем поеду.
Ваня весь вечер хмурился, словно обиделся на Быкова, но перед тем, как ложиться спать, подошел к нему, шепнул на ухо:
— Ты не думай, что я мальчишка, я себя закаляю, хочу быть настоящим мужчиной. Вот, знаешь, я себя от малодушия отучаю.
— Здорово придумано. За это тебя и похвалить можно… Малодушие, брат, самое скверное дело. Как же ты себя отучаешь?
— Если мне что-нибудь очень нравится, я стараюсь отказываться от этого, чтобы не баловать себя. Вот я сладкое очень люблю, а дед говорит, что привычка к сладкому — девичья глупость. Я и не ем конфет.
Быкова начал интересовать маленький подвижник с таким стойким и непреклонным характером.
— А еще что делаешь, чтобы отучиться от малодушия?
— Правду говорю… Вот в училище у нас такой случай был: мы учительнице французского языка в тетради нюхательного табаку насыпали. Весь урок она чихала и пожаловалась инспектору. Инспектор пришел сердитый, спрашивает, кто сделал. Мне стыдно стало, что молчат все, и я ответил: «Я сделал». Он мне тройку по поведению поставил. А другие побоялись, не сказали, что провинились, и надо мной смеялись: «Зачем, говорят, ты признался?» Я им тогда и сказал, что надо всегда говорить правду. Они говорят: «Получил же ты тройку за правду, а у нас пятерки». А я говорю, что у меня дед добрый, в тройках да пятерках не разбирается. А они говорят…
— Что-то больно часто у тебя «говорю» да «говорят», — перебил Быков. — А то, что не врешь, — хорошо.
Обрадованный похвалой названого отца, Ваня улегся на кровать Тентенникова в самом благодушном настроении и долго ворочался на сбитом в блин тюфяке: вспомнилась ему Москва, и рысак, прозванный «Ветром», и взбалмошный выдумщик дед, и птичий торг на площади, и встреча на улице с мальчиком — георгиевским кавалером, которому завидовали реалисты.
Утром зашел к Быкову его любимый моторист, приехавший из Москвы старичок Федор Егорович. Быков радостно встретил его:
— Вот этого «петлиста» еще не знаете? — спросил он, показывая на Ваню, сидевшего на подоконнике. — Сын мой приемный.
— Большой парень, — улыбнулся Федор Егорович, с интересом разглядывая насупившегося крепыша. — На побывку приехал?
— Какое на побывку! Воевать решил…
— Да что вы?
— Назад отправим скоро, — сказал Быков. — Ну, а пока пусть его тут проживает. Хлеба хватит, а сладкое он не любит…
— Не люблю, — решительно сказал Ваня.
— Вот и попрошу я вас: позвольте ему сегодня с вами побыть. А то мы в город с Глебом Ивановичем уезжаем, и жаль его одного оставлять.
— Если он скучать не будет — пожалуйста…
— Не буду, — отозвался Ваня и ушел с новым знакомым.
* * *В город летчики приехали под вечер. Дорóгой Глеб много рассказывал о своих новых отношениях с женой.
— Встречались изредка, — говорил Глеб, — только когда удавалось удрать с аэродрома. Я, как семнадцатилетний гимназист, целые дни о том лишь мечтал, чтобы встретиться с Наташей. Приеду к ней чаю попить, посидим, поболтаем, и снова назад: тем только от тоски и спасался. А с тех пор как Тентенников на поправку пошел, втроем мы за чаем стали просиживать…
— Старого не вспоминаете?
— Часто и о том беседуем. И знаешь, она по-прежнему говорит, что ничего понять не может: наваждение какое-то было…
— Наваждение?
— Именно — наваждение. У Васильева, сам знаешь, жизнь была богатая, много видел. Печоринство на себя напустил, вечные разговоры о том, что в жизни есть роковые загадки, и будто только тогда свой спор с историей закончит, когда его сверху песочком засыплют… Тем сначала и заинтересовал Наташу. Она-то ведь таких людей не видывала до встречи с ним, вот и показалось, будто есть у него какая-то правда. А теперь и слышать о нем не может…
— Хорошо, что ты не злопамятен, — задумчиво проговорил Быков. — У меня характер другой. Я не простил бы…
— Разве тут дело в прощении?
Госпиталь помещался на окраине, в светлом двухэтажном здании, выстроенном пышно и безвкусно, как умеют строить только на юге.
Однорукий солдат, стоявший у входа, знал Глеба и весело пробасил, крутя единственной рукой свой сивый табаком прокопченный ус:
— 7 Наталья Васильевна скоро будут, в город поехали. А Кузьма Васильевич уже три раза выходили, справлялись, скоро ли приедете.
Он повел летчиков по чистым длинным коридорам.
Тентенникова застали в небольшой комнате с единственной кроватью и крохотным столиком. Наташа устроила его отдельно, так как Тентенников в дни болезни умудрился перессориться с соседями по палате: его раздражали стоны слабосильных больных, и он орал на них, думая, что попросту люди распускаются. Сам он физическую боль переносил стойко и даже во время операции под местным наркозом умудрился рассказать врачу какую-то историю из своей богатой приключениями летной жизни.
— Наконец-то, — сказал Тентенников. — А я думал, что с тобой, Быков, и встретиться больше не доведется.
Вскоре вернулась Наташа.
Быков глядел на нее и не узнавал: так изменилась она после примирения с Глебом. Радостно блестели глаза, и улыбка была спокойная, тихая, похожая на добрую улыбку Лены.
— А я словно знала, — весело сказала она, протягивая руку мужу и ласково глядя на Тентенникова, — словно я знала, что надо гостей ждать: варенья к чаю купила. И знаете какого? Черносмородинового. Это на юге-то, — московскую банку, отличную… Теперь посидим за чаем. Я сейчас пойду на кухню, сразу спроворю.
— Хороша у тебя жена, Глеб Иванович, а ты чудил, — сказал Тентенников, провожая Наташу ласковым взглядом.
— И ты не миловал…
— По глупости, дружище, по глупости. Золотой она человек, да и только. Обо мне, как о брате, заботится. По вечерам приходит поговорить. И что бы ты думал? Что ни слово — то о тебе: и умный-то у меня Глеб и хороший…
— Не хвали гречневую кашу, — смутился Глеб, — она и сама себя хвалит…
Самовар шумел так же весело, как на Подьяческой или на Якиманке, и чай показался очень вкусным. Наташа придвинулась к Глебу, весело сказала:
— Вот и научились мы радоваться малому. Раньше, в Питере или Москве, что могло быть скучнее самовара? А нынче-то, поглядите-ка, мы и самовару рады, и чаю, и дешевенькому варенью: о северном лесе вспомнишь, и о смородине простой, и о том, как жили.
Быкова поразило, что говорить она стала совсем по-иному; в языке ее появилось множество речений, совсем незнакомых ей прежде, — из разных говоров, которые слышала от больных и раненых солдат, выбирала она простые, грубоватые, но чистые, чем-нибудь особенно ей полюбившиеся слова, и речь ее стала сердечней.
Особенно нравилось Быкову ее ярославское присловье: муть не после каждого слова говорила она ему, или Глебу, или Тентенникову: «родненький».
— Не вечно же будет война, — промолвил Тентенников. — Интересно, что тогда делать будем, когда обратно в города наши вернемся после войны? Помнишь, я тебе говорил, что мечтаю воздушный цирк устроить. Найду приятеля хорошего, и будем с ним из города в город разъезжать. Петлить буду, высший пилотаж показывать, публику катать. Стану вольным казаком, а там — будь что будет. Сами посудите, на заводе перед хозяином я человек подневольный. А тут — никаких хозяев. Антрепренеришку сыщу подходящего, не такого жулика, как Пылаев, и покачу по России. На хлеб да на воду хватит — и ладно, больше мне и не надобно…
— Не о том ты мечтал когда-то, — отозвался Быков. — Думал первым летчиком на Руси стать, а теперь и придумать что-нибудь повеселее ленишься.
— Укатали сивку крутые горки, значит, и мечты стали другими. Еще и войну переживем ли?
— А я конструктором буду, — сказал Глеб. — Я отнес профессору Жуковскому чемодан с чертежами покойного брата, вот и попробую после войны в них разобраться. У меня, знаешь, какая мечта? В воздух вагоны пустить. Тяжелое самолетостроение — самое главное в авиации. Лет сорок пройдет — воздушные поезда будут по небу ходить.