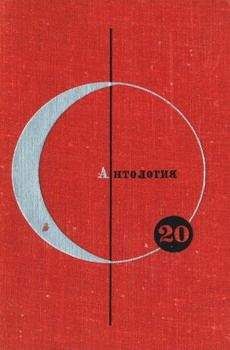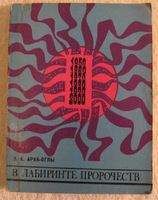Эдуард Зорин - Большое Гнездо
— Чо искать-то? — смущенно пробормотал Веселица. — Покуда меду нацедил, покуда коням сена задал — седни у всех денек был не из легких.
— Вобея проведал ли? Сидит?
— Куды ж ему деться?..
Вои засмеялись, Звездан похлопал Веселицу по плечу:
— Поворачивайся, хозяин. Вон и ковшички, и чары уже на столе. Лей, да мимо не пролей, а мы песни петь будем.
— Скоморохов бы сюды!
— А то и гусляра…
— Гусляры князей забавляют. А мы сами себе и скоморохи, и гусляры.
Митяй глядел на всех с восторгом. Вот она жизнь! И четырех дней не минуло, как выехали из Новгорода, а сколько всего довелось повидать. Подле Ефросима-то робкой была его душа, а здесь робкому не место. Пили все помногу, еще боле хвастались. Митяй тоже хвастался — и никто над ним не смеялся, слушали с уважением, как равного…
А Веселице почему-то вдруг сделалось грустно. И зря ластилась к нему Малка, зря старался рассмешить Ошаня.
Под утро иные спали в ложнице — вразброс на половичках, иные — в горнице на столах. Только Ошаню и Веселицу не брал крепкий мед.
Ушла Степанида. Поводя вокруг себя покрасневшими глазами, Ошаня говорил с угрозой:
— Пойду к попу Еремею. Хочешь, пойдем со мной?
— Не, — отвечал Веселица, мотая головой.
— Ну, как хошь, — обиделся Ошаня и встал из-за стола. — Спасибо, хозяйка, за хлеб-соль. Ввечеру ко мне наведывайтесь…
— Куды же ты? — забеспокоилась Малка. — Глянь-ко, едва на ногах стоишь.
— Мне бы ишшо чару, — икнув, сказал Ошаня и грохнулся посреди горницы на прикорнувшего воя. Вой только хмыкнул, но даже не пошевелился. Ошаня деловито подобрал под себя его ногу, устроился, как на подушке, и мигом заснул.
— Пора и нам спать, — позвала Малка Веселицу.
— Чо разговоры зря говорить, — сказал посадник утром, выслушав Веселицу. — Ведите пленника, поглядим, что за зверь…
Был он в хорошем настроении и не сонный, как вчера, — видно, предстоящая забава радовала его и бодрила.
Ошаня виновато замялся. Веселица почесал за ухом.
— Не гневайся, боярин, — начал дружинник. — Человечка того лихого мы и впрямь словили — вои твои соврать не дадут.
— Да за чем же дело? — насторожился посадник, с удивлением разглядывая ранних гостей. Были они с перепоя вялые и пришибленные — языки ворочались с трудом. Да это не беда — кто не пивал на радостях? Вон и сам боярин не много дней тому назад набрался на крестинах, едва в терем приволокли.
— Сбёг наш пленник-то, — пробормотал Ошаня, запинаясь.
— Как это — сбег? — сразу потух боярин. — Что ты такое бормочешь?..
— Все верно, — подтвердил Веселица, пряча глаза. — Сбег…
— Куды же сбег-то? — невпопад выпалил посадник.
— А кто его знает, — сказал Ошаня. — Сбег — и всё тут. Ищи ветра в поле…
— С вечера заперли мы его в надежном месте, а он сбег…
— Дурни вы, — в сердцах обругал их боярин, — почто сразу в мой поруб не привели?
— Поздно было. Беспокоить тебя не хотели…
— Али насмехаться надо мной вздумали? — разжигал себя посадник.
— Что ты, боярин! — замахал руками Ошаня. — Да как же это мы над гобою насмехаться-то стали бы?..
— Сами виниться пришли, — поддержал приятеля Веселица. — Ты уж нас прости…
— Ладно, повинную голову меч не сечет, — подумав, смягчился посадник. — Однако, велю я вас самих посадить в поруб, чтобы впредь неповадно было. Добрая наука — хороший урок. Эй, люди!
Вошли отроки.
— Отворите-ко темницу да киньте туды добрых молодцев. Пущай маленько поразмыслят.
Схватили отроки Ошаню с Веселицей под руки, повели через двор. А во дворе вои их ждут, Звездан с Митяем да Малка со Степанидой.
— Куды же это мужиков наших повели? — завопила Степанида.
— А туды и повели, чтобы честной народ понапрасну не тревожили, — сказал оказавшийся рядом поп Еремей.
— Ну, Еремей, возвернусь из поруба, угощу я тебя!.. — замотался в руках у отроков Ошаня. — И ты, Степанида, гляди…
Ночной хмель еще не вовсе выскочил у него из головы. Отроки смеялись, держали Ошаню крепко, не больно заламывали ему руки назад — боялись повредить: мастеру руки да голова всего нужнее, а про добрые его дела знали все, Ошанины лодии славились по всей Ростовской земле.
Глава пятая
С радостью и тревогой приглядывалась Мария к тому, как взрослеют ее сыновья.
С радостью — потому что родная кровь, потому что все красивы и статны, обличьем в отца. С тревогой — потому что разными они росли, потому что не были друг на друга похожи. И больше всего любила она Константина с Юрием. И больше всех Константин с Юрием ее тревожили.
Когда совсем маленькими они были, все было у них общее. А повзрослели, вытянулись, пораздались в плечах — и стало их не узнать. Константин больше льнул к отцу, Юрий — к матери. Юрий — с Марией в монастырь, Константин — к Словише. Все чаще повадился он бывать у лихого Всеволодова дружинника. И князь потакал ему, позволял проводить целые дни в Словишином тереме.
Рано научился Константин держаться во взрослом седле, правил конем, как заправский вершник, из лука метко стрелял и уж прилаживался помаленьку к тяжелому Словишиному мечу.
Тогда по заказу Всеволода сковал ему Морхиня меч маленький, по руке, но острый, из крепкой закаленной стали.
— Еще порежется малец, — вздыхала Мария, не смея перечить князю.
— А пущай и порежется, — отвечал Всеволод, — в другой раз сноровистее будет. Ты вот мне Юрия вовсе попортила — чернец он, а не княжич. Почто балуешь дитя?
— Да как же его не баловать? — со слезами на глазах говорила княгиня. — Кому же и баловать дите, как не матери?
— Константина тебе не отдам. Он — старшой в роду. — раздражался Всеволод, — ему дело мое продолжать…
— Еще когда вырастет.
— Вырастет — не заметишь. А после его учить поздно будет.
За Юрия болело у Всеволода сердце. Иной раз и попрекнул бы Марию, но язык не поворачивался — ладно, время пройдет, все само по себе образуется. Надоест и ему класть земные поклоны, надоест слушать бестолковые бабьи разговоры.
Время шло, а одно сплеталось с другим. Стала примечать Мария, что все больше отдалялся от нее Всеволод. Все реже звал к себе, все реже хаживал к ней в ложницу. Истосковалась у нее душа, изранилась подозрениями. «Не завел ли себе полюбовницу князь? — думала она. — Не наскучила ли я ему?»
Подолгу гляделась в зеркало, пальчиками расправляла морщинки, замечала, что стареет. Приглашала бабок-травниц, просила у них совета: как молодость, красоту сохранить?
Бабы-травницы угодить ей старались, каждая давала свой совет:
— Растирай бурачок с медом, смазывайся по утрам…
— Пей настой брусники, собранной в зарев…
— Лопухом волосы-то мой, от лопуха седина не заводится…
Но била ей в виски седина, все больше появлялось белых прядей, а у глаз — мелких морщин. Не помогали ей советы прилежных травниц, годы шли, разрушая былую красоту.
Ворчливой сделалась Мария, сердилась на свеженьких дворовых девок, а раньше сиживала с ними вечерами, слушала их песни, сама не прочь была спеть или рассказать сказку.
Любили ее девки, а теперь побаивались. Особенно с тех пор сторониться стали, как обварила она Найденышку из Заборья, веселую проказницу и хохотушку. Ямочки были у Найденышки на щеках, белые зубы.
Но застала Мария ее как-то со Всеволодом на заднем дворе возле медуши. Почудилось, что обнимал ее князь, что целовал ее в губы. Почудилось только, а утром стряслась с Найденышкой беда. Опрокинулся на нее котел с горячей водой, закричала девушка, выбежала в переход сама не своя от боли.
В ту пору никого с ней не было, одна только княгиня наведалась проверить поварих.
Про Марию Найденышка никому ничего не сказывала, но шила в мешке не утаишь. Через неделю отправили ее обратно в деревню, а девки стали недобро шушукаться за спиной княгини, сторонились, сердечные тайны свои от нее берегли.
Правда это, не правда ли, а слухи ползли, и стала примечать Мария на себе Всеволодовы укоризненные взгляды. Неужто и впрямь он ее разлюбил, неужто поверил злым языкам?..
Ведь не было же ничего, не покушалась она на Найденышку. В одно только по-бабьи поверила, что обнимал Всеволод девушку. А раз поверила, то и защитить себя не смогла. Винилась в несодеянном, в том, что пожелала ей лиха, а беда возьми о ту пору и стрясись. Будто подслушал кто, будто нарочно подстроил. Не роняла она котла, а только задела, проходя мимо.
Еще угрюмее, еще нелюдимее сделалась Мария с того дня. И, пряча неловкость, окружала себя излишним вниманием и заботами. Наслушавшись про царьградский гордый обычай, велела отменным владимирским мастерам изготовить для себя носилки, покрыть их золотом и украсить каменьями и в тех носилках показывалась на улицах города…