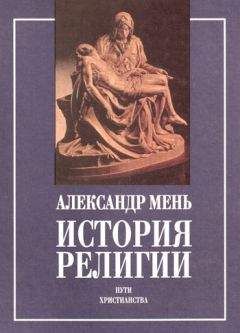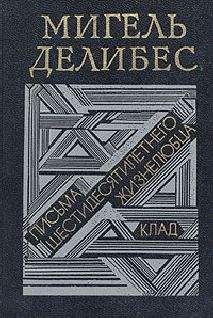Мигель Делибес - Еретик
— Дитя мое, — сказала она. — Что они с тобой сделали?
Несмотря на прошедшие годы, Сиприано сразу ее узнал. Говорить он не мог, но попытался взять ее руку, чтобы хоть как-нибудь выразить свою любовь, однако нахлынувший поток людей разделил их. Двое сильных служителей усадили его на чалого осла, меж тем как Доктор и фрай Доминго уже тронулись в путь по тесному проходу между солдатами. Один из стражей хлопнул по крупу осла, на котором сидел Сиприано, и седок неуверенно сжал коленями бока животного. Минервина тихонько вела осла за повод и молча плакала, стараясь отогнать ослов фрая Доминго и Доктора. Площадь бурлила, неуправляемая, как морская стихия. По обе стороны от Сиприано простиралась движущаяся, волнующаяся толпа — разгоряченные мужчины пререкались с теми, кто мешал пройти; сострадательные, плачущие женщины; дети, шныряющие возле расставленных тут и там прилавков с лакомствами. Насыщенный влагой знойный воздух, испарения, исходившие от толпы, были настолько нестерпимы, что разомлевшие мужчины и женщины с потными подмышками сбрасывали праздничные наряды, оставаясь в одних камзолах или рубахах под беспощадным послеполуденным солнцем.
Раскачиваясь на спине медленно идущего осла, Сиприано не замечал жары. Он смотрел на Минервину, ведущую осла за повод, и его охватывало чувство непривычного покоя и защищенности, как в детстве. Минервина шла вперед изящно и уверенно — никто бы не подумал, что она ведет его на встречу смерти. Среди тех, кто вел ослов, она была единственной женщиной и, несмотря на свои годы, поражала стройностью стана, так что полупьяные деревенские жители, явившиеся в город на праздник, приставали к ней, заигрывали, делая сальные намеки. Однако «процессия ослов» медленно, но неуклонно двигалась вперед по узкому коридору между солдат с алебардами. Двадцать восемь ослов, двадцать восемь странных седоков в санбенито с бесами на груди и в позорных колпаках представляли собой весьма гротескное шествие. Но вот Сиприано приблизился к фраю Доминго, и до него стали доноситься назидательные речи ехавшего впереди Доктора, его вопли раскаяния и мольбы о сочувствии. Сиприано смотрел на его покачивавшуюся на осле сгорбленную, жалкую фигурку, на сбившийся набок колпак, и спрашивал себя, что общего у этого человека с тем, другим Доктором, который несколько месяцев назад с энтузиазмом наставлял его перед поездкой в Германию. Холодно, недоверчиво, без сострадания слушал он его заклинания и мольбы:
— Слушайте и верьте мне — на земле нет невидимой Церкви, а есть только видимая, — говорил Доктор. — Церковь эта — Католическая Церковь, Римская и Вселенская. Христос основал ее своею кровью и страстями, и Его наместник есть никто иной, как Верховный Понтифик. И будьте уверены, что, хотя в этом Риме вершились все грехи и мерзости мира, поскольку там пребывает Наместник Христа, там же пребывает Святой Дух.
Его обзывали еретиком, чучелом, старым безумцем, а он то плакал, то улыбался, называя свою участь освобождением. Женщины вместе с ним осеняли себя крестным знамением, всхлипывали и рыдали, однако кое-кто из мужчин плевал в него, приговаривая: «Теперь-то он струсил, наложил в штаны, козел этакий!»
Так они добрались до улицы Сантьяго, где ослы двигались еле-еле среди еще более густой, почти непроницаемой толпы, сдерживаемой алебардами. Из окон и с балконов, чтобы поглазеть на процессию, выглядывали расфранченные женщины в ярких нарядах и, окликая друг друга через улицу, крикливо комментировали происходящее. Вдобавок ко всему везде сновали, резвились, оглушали свистом своих свистулек из абрикосовых косточек дети, затрудняя и без того нелегкое продвижение. И среди всей этой кутерьмы до ушей Сиприано еще долетали обрывки фраз Доктора, отдельные слова его бесконечного монолога. Однако внимание Сиприано, его слабеющее сознание безотчетно устремлялось к Минервине, решительно идущей с концом повода в правой руке средь бушующей толпы. Его умиляло ее изящество, и, когда он смотрел на нее, подслеповатые глаза его наполнялись слезами. Несомненно, Минервина была единственным человеком, который когда-либо в жизни его любил, единственным, кого любил он во исполнение божественной заповеди людям любить друг друга. Укачиваемый равномерным шагом осла, он закрыл глаза и стал вспоминать главные эпизоды своей жизни с Минервиной: ее нежность к нему на фоне ледяных взглядов отца, их прогулки по Дамбе, повозку, отвозившую их в Сантовению, преданность, с какой она охраняла его сон, ее безропотную покорность, когда она отдалась ему после его возвращения в дом дяди. Когда же Мину прогнали, она исчезла из его жизни, как бы испарилась. Напрасны были попытки ее отыскать. А вот теперь, по прошествии двадцати лет, она таинственным образом снова появилась, как ангел-хранитель, чтобы быть с ним в его в последние мгновения. Неужели Мина и впрямь единственный человек, которого он любил? Он подумал об Ане Энирикес, об этом едва наметившемся романе, о дяде Игнасио, рабе условностей, о своей страшной неудаче с Тео — вереница теней, прошедших через его жизнь и исчезнувших, когда он поверил, что найдет чувство братства в секте. Но что осталось от этого пресловутого желанного братства? Кто из всех них продолжал быть его братом в роковой миг? Ну конечно же, не Доктор, не Педро Касалья, не Беатрис. Кто же? Быть может, дон Карлос де Сесо, несмотря на их противоречия? А почему бы не Хуан Санчес, самый незаметный, смиренный и неприкаянный из братьев? Сиприано не переставала мучить мысль о клятвопреступлении и обилии доносов. «Моя жизнь прошла без страсти», — сказал он себе. Как ни удивительно может показаться, его медленно угасающий разум упорно избегал мыслей о смерти и сосредоточился на размышлении о жуткой тайне человеческой ограниченности. Он принял благодеяние Христа не из тщеславия и не из гордыни, но в час, когда надо было устоять, также гнал их от себя. Должен ли он держаться прежних убеждений или же вернуться к вере своих предков, одно из двух, но в любом случае ему нужно твердо знать, что он на истинном пути. Откуда же взять это знание? Он мысленно молил Господа нашего о маленькой помощи: одно слово, один жест, один кивок. Однако Господь наш безмолвствовал и, храня молчание, уважал его свободу. Но достаточно ли разума человеческого, самого по себе, чтобы разрешить эту труднейшую проблему? Читая «Благодеяние Христа» он ощущал божественное веяние, но со временем все, начиная со слов Касальи, обрушилось. Стало быть, все пройденное ничего не стоит? «О, Господи, — в томлении духа взмолился он, — подай мне знак!» Его терзало непроницаемое молчание Бога, неодолимая ограниченность его мозга, ужасающая необходимость самому, в полном одиночестве, решить вопрос жизненной важности.
Покачиванье ослика среди волнующегося людского моря усыпляло его. Открыв глаза, он увидел, что возле фрая Доминго де Рохаса кружат, как мухи, десятки сутан, движутся вровень с его ослом, что-то громко ему кричат, увертываясь от торчащих алебард. Они, видно, тоже пытаются вырвать у него хоть слово, хоть жест, пристают к нему. Но на самом-то деле что ими движет? Спасение его души или престиж доминиканского ордена? Почему его сопровождает эта шумная компания, оттеняя унылое отчаяние, горькое одиночество остальных осужденных? Доминиканец, по-видимому, держался твердо. «Нет, нет!» — — повторял он, и сопровождавшие его, смешавшись со зрителями, сообщали плохую новость: «Он сказал „нет“, он упорствует, но надо его спасти». И они снова начинали его донимать, а один из них даже прикоснулся к нему, убеждая умереть в той же вере, что и «наш» блаженный святой Фома, но фрай Доминго держался стойко. «Нет, нет!» — повторял он, пока фрай Антонио де Коррерас, который провел возле него ночь, исповедал его и помог ему сесть на осла, не разогнал назойливых мух и не пошел рядом, защищая его, разговаривая с ним до самого костра.
По другую сторону Полевых ворот народу собралось еще больше, однако просторное поле позволяло людям двигаться свободно. Посреди простого люда виднелись роскошные кареты, мулы в богатой сбруе, на которых ехали парами ремесленники со своими женами; одна спесивая дама в шляпе с перьями и золотых украшениях, подгоняла своего осла, чтобы держаться вровень с осужденными и иметь возможность их оскорблять. Но по мере того, как они выезжали на поле, ажиотаж и суматоха усиливались. Приближалось великое завершение праздника. Знатные дамы и простолюдинки, мужчины с малолетними детьми на плечах, всадники и даже кареты занимали места получше, передвигались от столба к столбу, осведомляясь, кому он назначен, задерживаясь на минуту-другую у лавочек со всякой мелочью. Другие уже давно заняли места перед столбами и теперь яростно их защищали. Дым от жарящихся колбас и пончиков распространялся по всему полю. Сейчас должен был начаться последний номер программы: сожжение еретиков, их конвульсии, их искаженные лица среди пламени, их вопли, когда языки огня начнут лизать их тела, патетические гримасы их физиономий, на которых уже просматривается отпечаток ада.