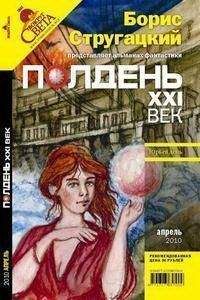Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк или Язык для потерпевших кораблекрушение
А потом дождь пошел.
Дождем волну немного успокоило.
А нымылане сидели на террасе тихо, пятна от побоев сводили с тел морской травой — падали, когда бежали. Дивились, что нет с ними Кенилля… Отстала, наверное, мышеловка, смело Кенилля волной… Дивились: вот как сразу большой мир умаляется. когда исчезает даже один человек. Всего-то там какой-то птичкин голос, а жалко…
— Смыло? — засопев, спросил Похабин.
Айга кивнул.
Бормотал, спрятав лицо в ладони: смыло Кенилля, смыло малую шишигу… Взяла девку к себе тинная бабушка, сделает со временем бабу-пужанку… Ему, Айге, от этого не хочется жить… Объяснял, пряча лицо, что вот несет в море статки Кенилля, всякую одежонку. Сейчас бросит одежонку в море. Тут хорошая одежонка. Кенилля не в самом худшем придет к богу Кутхе. Он, Айга, думает, что бог Кутха, увидев Кенилля, обрадуется и заберет шишигу у тинной бабушки. Там у Кутхи все хорошо — птицы кричат негромко, трава по пояс. Пряча лицо, объяснял странным голосом: вот он, Айга, совсем не жаден. Сейчас бросит статки в воду, бог Кутха то увидит, и когда придет к нему когда-нибудь сам нымылан Айга, скажет: ты молодец, Айга, ты тогда ничего не пожалел для своей шишиги, хорошей одежды не пожалел для нее! — а потому бог Кутха и к нему, к нымылану Айге, хорошо отнесется, притеснять не станет, даст там теплую полуземлянку.
Отнял ладони от лица.
Лицо серое, взгляд нездешний.
Вздрогнул нымылан, с тоской подумал Похабин. Есть у камчадалов такая болезнь, называют — вздрогнул. Живет себе человек здоровый, веселый. Носит дрова, гоняет олешков, ловит рыбу. Вот смеется, вот жадно шарит ложкой в котле, вылавливая самые крупные куски мяса, зажигает его на живое, и вдруг в один миг что-то делается с таким человеком. Его лицо стареет, а взгляд становится нездешним. Встает он задумчиво и уходит прочь от котла, уходит глубоко в лес или к морю, неважно куда, там садится на камень или на старый пень и начинает горько плакать. Если спросить такого — почему плачешь? — он не ответит. Будет, плача, сидеть, пока не замерзнет или не умрет с голоду. А то станет добычей какого зверя.
2— А дитя, Айга? Чье там дитя? — негромко спросил маиор. — Чье дитя носят нымыланы у балаганов?
— То Кенилля опросталась дитем.
— Кенилля?!
Айга сумеречно кивнул:
— Она…
Пояснил сумеречно:
— Когда бежали, отдельно несли дитя… А Кенилля потерялась… Отдельно принесли дитя, а Кенилля нет…
Маиор перекрестился:
— Что будете делать с дитем?
— Девки присмотрят.
— А Иван? Нашел тебя Аймаклау? — негромко, но истово спросил маиор, даже рукой потянул на себя Айгу.
— Нашел… — сумеречно кивнул Айга, почти не видя маиора. — Пришел Аймаклау… Сразу после волны пришел…Он чюхоч первый заметил, шли чюхчи грабить нымыланские балаганы. Аймаклау вовремя нымыланам крикнул, тех чюхоч немного было, испугались крика, ушли… Решили, наверное, что здесь русские с огненным боем… Теперь говорим Аймаклау: с нами живи, всегда живи, тебя чюхчи сильно боятся. Твое дитя вырастим, будешь нашим родимцем. Ясак принесем твоему царю…
— Нашему, — строго поправил маиор.
— И вашему принесем… — не понял маиора Айга. И погрозил в сторону полночи: — Чюхчи как волки… Ходят вокруг, всех хотят свести…
Встал, подошел к обрыву, побросал вниз борошнишко Кенилля. Что-то там сразу утонуло, что-то понесло волной. На это не смотрел. Бог Кутха да тинная бабушка, они все приберут.
— Идем, — негромко сказал маиор, вставая. — Идем, Похабин.
И крикнул:
— Айга, не тронут нас твои родимцы?… Идем!..
Глава VIII. Дресвяная река
Смеркалось.
Северный ветер, подув с обеда, снес последние обрывки тумана, прочистил смутное небо. Вкусно пахло дымом. Низкая звезда Ичваламак, отразившись в тяжелой переваливающейся волне, выпустила колеблющийся лучик. Волна переливалась, лучик изгибался, а то совсем гас. Зато от тяжелых ударов о берег неожиданно вспыхивала вся волна.
И вдали что-то вспыхивало. Может, призраки.
Скользнет что-то в сумерках, дохнет тоской. Плывут, наверное, на байдарах сумеречные ламуты. Вот переселились за море, а снедает ламутов тоска. Как сумерки, так пытаются плыть домой. Совсем безвредные ламуты, тихие, от долгого пребывания на воде наросли между пальцами перепонки.
Смещение теней, времени дым.
Вот, Иван, сказал себе горько. Вниманием царствующей особы был отмечен. До края света дошел. Даже дикующую полюбил. А вот сидишь один на краю света…
Вот, Иван, сказал себе, ты шел, думал, правда думал, что впереди — край земли, что ничего уже и нет за тем краем. А за тем краем оказались новые острова, а с тех островов еще что-то можно увидеть…
А плывут сумеречные ламуты. Да дым стелется.
Все — дым, подумал.
Где чугунный господин Чепесюк, никогда не произносивший слов? Где хитрые хорошие мужики? Где монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька? Где верные гренадеры братья Агеевы? Где гренадер Семен Паламошный с его ложным провидческим даром? Где черный монах брат Игнатий?…
А Волотька Атласов, государев прикащик, присоединивший к России новый край? Кто помнит Волотьку? Может, только думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев в Санкт-Петербурхе и помнит, если жив… Или добрая соломенная вдова Саплина, видевшая Волотьку в своем малолетстве…
Все — дым.
Откинувшись спиной на теплый, еще не остывший в сумерках камень, Крестинин видел перед собой смутное море, раскачивающееся тяжело. Закинув голову, видел небо — все в звездных веселых россыпях, как знаки на птичьей камлейке Кенилля… Вон, видел, красная стрела — звезда Ичиваламак, ярко стреляющая красным светом… А там олень — Елуе-Кыинг. Вечный олень, бежит по вечному кругу…
Все дым.
Дым шелковый, темный, как апонские ткани… Беспрерывно текущий в ночи, как Млечный путь…
Чигей-вай. Река дресвяная.
Как бы услышал высокий голосок Кенилля.
Как страшно, подумал, как широко распространился мир… В детстве знал — есть Якуцк, есть плоская сендуха, в плоской сендухе кочуют дикующие и прячутся страшные люди-убивцы. Потом знал — есть Санкт-Петербурх, сырой плоский город, весь в дымах, плывущих над черепичными и деревянными крышами, машущий крыльями ветряных мельниц. Потом…
А потом ссорились в дымных острожках, умирали в море.
Все дым.
2Чего ж ты, Иван? — сказал себе. Чего ж ты один? Ведь многое нашел, первым вышел на острова. Многих иноземцев подвел под шерть, они поклялись на стволе пищали…
Задохнулся: Кенилля!..
Дым, дым.
Море в дыму, в сумеречности, небо в звездном дыму. Дресвяная река, Чигей-вай, как дым, течет через небо. Светлая, долгая, тайная, как река Уйелен, несущая долгие воды в море.
Кенилля…
Вот ты, Иван, жил. Вот ты шумно шел в сторону большой воды, не глядя тыкал ножом в человека, которого считал врагом, жадно пил травное вино, грех за тобой над всеми дорогами стоял витыми столбами пыли, а сидишь вот один — на краю земли… Почему?… И почему так сердце сосет?… Получается, ты идешь, ты ищешь, ты, осердясь, бежишь от державы, а тем только распространяешь ее… Бежишь от державы, сердишься на державу, отмахиваешься, а отмахнуться нельзя, потому что держава заключена в тебе…
Как такое понять?
Вот ты, Иван, жил. Ты в пургу ходил по сендухе, в безвестности сплавлялся по безымянным рекам, бил всякого зверя, плыл по воде, широкой как небо, сияющей, как Млечный путь, Чигей-вай, скорбел сердцем и ел нечистое, терпел раны и кровь, забывал чтить святых, а сидишь один на краю света…
Смирись, сказал себе. Что потеряно, то взял Господь. Ты же знаешь теперь, что ничего не надо просить у Господа. Он лучше знает, в чем мы нуждаемся. Смирись. Раз взял Господь, значит, надо.
Но Кенилля… Голос птичкин…
Все равно смирись! Обязательно смирись. Ведь все равно, как мог жить с некрещеной?…
Волны медленно шли к берегу, замедлялись на отмелях, начинали вспухать, расти. Совсем сердитые подгребали под себя воду, вдруг обнажая дно. Краб, тоже сердясь, мотал тяжелой клешней, сердитая рыба, завалившись на бок, била хвостом по камню, а волны уже поднимались — над крабом, над рыбой, над камнями. Росли, росли и, наконец, взрывалась чудовищными фонтанами.
Почему так? Вот встает вода, видишь воду. Вот падает вода, опять видишь воду. Кенилля…
Сердце сосало.
Зачем новые земли, новые острова, зачем казенка, в которой аманат стонет, зачем жирный олешек, сендуха, пузатая буса, диковинная трава бамбук, колючая соль на камне, зачем берега Апонии? Зачем Селебен — гора из чистого серебра? Зачем толстые рыбы, пугливый зверь, шорох дождя, звезды в небе, сумеречные ламуты на воде?
Ах, Кенилля… Может, тут бежала — от балаганов… Руки вытянув, бежала, птичкиным высоким голосом окрикивала дитё… «Явалет!» — окрикивала, зная уже: слаба, никак не добежит, ужасная волна встает за спиною. «Явалет! — окрикивала. — Дите!.». И, оборачиваясь, видела встающую за спиной ужасную волну, видела камни бывшего дна, краб сердито помавал клешнями, рыба, смутившись, хвостом колотила по дну, а за спиной — эта огромная, выше неба, выше туч, все затмевающая ужасная волна…