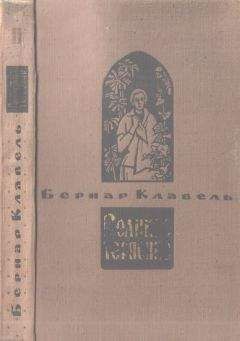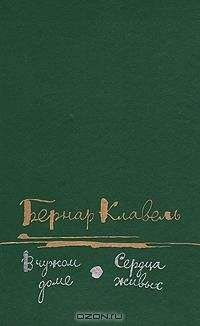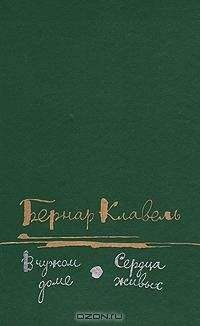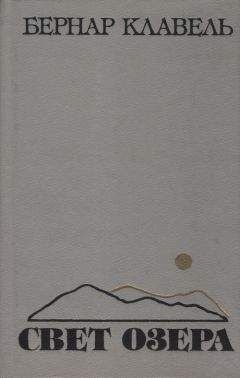Владимир Еременко - Дождаться утра
Иван с сыном заиграли вальс. Стол и стулья сдвинули к стене, и закружились пары. Девчата не ждали приглашения парней, а сами подходили и увлекали их в круг. Я хотел, чтобы ко мне подошла Вера, но, когда она взяла меня за руку, страшно смутился.
— Я только в одну сторону умею…
— Что в одну сторону?.. — захохотала Вера.
Я почувствовал, как мое лицо и уши превращаются в уголь.
— Умею кружиться только в одну сторону…
— В эту? — подхватила меня и закружила Вера.
Она так крепко и властно держала меня, что я вертелся вокруг нее волчком.
Рядом танцевали Славка с Валюшей и Шурка с Любой. Они, как и я, танцевали за девушек, и это немного ободрило меня. А когда я увидел, что и Василий Афанасьевич вальсирует вокруг нашей Оли, то успокоился совсем.
Верины глаза были на уровне моих, но я не решался смотреть в них и глядел в сторону, на танцующих. Вера подтрунивала, заглядывала в лицо и все время то спрашивала, то поучала меня.
— Танцевать с дамой и смотреть в сторону невежливо, Андрюшенька. Ты в какую сторону не умеешь кружиться? В эту? — И она резко начинала вращать меня то влево, то вправо. В ее сильных и цепких руках я вдруг почувствовал себя мышонком в лапах кошки. И убежать-то некуда!
Хотя, если честно признаться, бежать мне от Веры никуда не хотелось, а хотелось одного — побороть свое ненавистное дурацкое смущение.
…Конец нашего Праздника урожая помню урывками. Я танцевал опять с Верой, потом вместо нее оказалась Валя, и я все время допытывался, сочиняет ли она припевки. Валя смеялась, называла меня чудаком.
— Только услышу гармонь, припевки так и рвутся из меня.
Потом стояли на веранде, и Гриша, больно сжав плечо, тряс меня и говорил что-то об учебе. С Дедом и Василием Афанасьевичем он договорился. Я могу не ехать в МТС, на ремонтные работы, а пойду в школу. Я не соглашался…
Подошли Василий Афанасьевич, Шурка и Славка. Стали говорить опять о войне и гадать, когда она кончится. Я рассерженно сказал, что она никогда не кончится.
Никто не обратил никакого внимания на мои слова. И тогда я шагнул в круг и громко сказал:
— Вы посмотрите, сколько идти нашим солдатам до Берлина! Пол-Украины, всю Белоруссию, Прибалтику, Польшу, а тогда только начнется Германия…
— Не каркай! — прикрикнул на меня Гриша.
Я обиделся, отошел, а они начали спорить все о той же войне, какая шла где-то там и была здесь повсюду, рядом. Говорили о втором фронте — бесконечная тема всех разговоров о войне…
Обида моя тут же прошла. Я стоял в стороне, прислушиваясь к запальчивому разговору ребят, и думал: «Вот уже больше двух лет разговоры людей сводятся к войне. Война затопила все: и землю, и души людей. Сколько же еще это будет продолжаться?»
Почему вдруг я понял, что впереди еще много войны? Почему стал рассуждать, как моя мать, Дед, Василий Афанасьевич?.. Что это со мной? Стоял и прислушивался к себе и не мог понять, откуда это.
Будто и во мне гудела эта страшная война. Она уже стольких унесла. Даже в моей памяти они не умещаются: Сенька Грызлов и их семья, девушки с Украины, Степаныч, Костя, те первые убитые красноармейцы, а сколько их, без имен и фамилий, и тех, кого мы хоронили весной, и тех, кто так и остался под развалинами. И Васька, бедный Васька — моя непроходящая боль. У меня путается в голове. Мне нечем дышать. Что со мною? Я стою и прислушиваюсь к себе и не могу понять, откуда это.
А происходило простое и обыкновенное — я взрослел.
В страну юности
«Газик» с открытым верхом тянет за собой шлейф пыли. Чуть приподнявшись над сиденьем, ошалело верчу головой, пытаясь узнать свои поля. Тридцать лет назад тут «ковырялись» наши «старички» — колесные трактора. Где-то здесь, узнаю и не узнаю. Сердцем узнаю, а глазами нет. Да и как узнать? Поля совсем не те: большие, ровные, как стол, а наши были маленькие, кургузые, иссеченные оспинами окопов, провалами разоренных блиндажей. Их пересекали какие-то балочки, лощины, а теперь до самого горизонта размахнулись эти бескрайние поля.
Нет, не могу определить, где седьмое, где девятое, а где-то Горемычное… Васьки Попова поле. Не могу… Только першит в горле да чуть щиплет глаза. Наверно, от пыли, нашей знаменитой приволжской. Вот она не изменилась: рыжая, едкая, способная в безветренную погоду бесконечно долго висеть над дорогой, и тогда уж лучше ехать обочиной. А сейчас и обочины-то нет. Все вокруг распахано до самой дороги. Да и дорога-то не та, по какой мы ездили. Все стало не таким, а вот пыль осталась той же. У нее даже вкус и запах те же, и я на мгновенье словно провалился в жаркие августовские дни сорок второго.
…Зыбким белесым туманом колышется стена пыли. Мы на окопах за городом. Мимо нас с вечера до утра в этот белесый туман по дорогам и за дорогами двигаются бесконечные колонны красноармейцев.
Они уходят туда, откуда по ночам мы все сильнее слышим грохот и гул, втягиваются в ту излучину Дона, про которую вот уже несколько недель говорится в сводках Совинформбюро. Идут как в бездонную прорву, только по ночам, когда над степью не кружат самолеты, идут пропыленные, во взмокших новеньких гимнастерках и пилотках, со скатками и зелеными касками, привязанными к рюкзакам.
Шли сибиряки и уральцы. Молодые, здоровые, они весело выкрикивали из колонн, заговаривали с женщинами, отпускали крепкие шутки и хохотали. Сколько их тогда шло к этой излучине, загорелых, крепких! На окопы мы выходили рано, чуть засереет рассвет, и еще заставали эти колонны на марше. Бежали к дороге, становились у самой обочины, вглядывались в лица, надеясь увидеть кого-то из своих родных и знакомых. Я и сейчас вижу, какими глазами они смотрели на женщин: горячими, озорными и, может быть, немного виноватыми…
— Что, не узнаете родные места? — весело поворачивается в мою сторону шофер. Лицо у него круглое, опаленное солнцем, улыбка до ушей. — Мне Григорий Кузьмич наказывал, чтоб обязательно повез вас этой дорогой. Все сам встретить рвался, да срочно в район вызвали.
— Миша, сколько тебе лет?
— Уже двадцать четыре. А что?
— Да так… Чтобы не забывать свои…
Миша смеется. Он легко и лихо ведет машину, то неудержимо разгоняет, то плавно сдерживает ее прыть, ловко перескакивая выбоины и ухабы. Андрей восхищенно следит за ним. Я вижу, какое нетерпение сжигает его сейчас.
Перед нашей поездкой на юг в лагере для старшеклассников он научился водить машину, и теперь желание сесть за руль, да еще на глазах у родителей и сестры, разрывает его. Он уже шептал матери на ухо: «Попроси у него… Попроси…» Ко мне не обращается. Знает: просить за него не буду, да и понимает — не до него мне.
Меня сейчас волнует, правильно ли я определил то место, где находился наш полевой стан, где была лощина, запруженная лазоревыми цветами? Даже шея заболела, верчу и верчу головой, а узнать ничего не могу. Выплывают откуда-то из небытия картины тридцатилетней давности. Никогда не думал, что память может хранить столько лет то, что раньше не вспоминалось.
С обеих сторон дороги стелются серо-желтые скошенные нивы. На них темнеют копны соломы, а там, где она убрана, пылят трактора, разматывая за собой широкие темные полосы свежей пахоты. В августе, когда еще не окончена уборка и идет сев озимых, они пашут зябь! Для меня это невероятно. Сколько же нужно иметь тракторов, чтобы успеть одновременно все?! Мы брались за зябь только тогда, когда заканчивали уборку и сев озимых. А уборка часто затягивалась до заморозков. Когда это было? Кажется, только вчера.
Дорога наконец вырвалась из цепких объятий темных пашен и серо-матовых жнив, и «газик» выскакивает на взгорок, поросший редкими кустиками полыни, чернобыла и ковыля.
— Смотри, пароход! — во всю мочь кричит Юля. — Смотри! Вон еще один!
Поворачиваюсь и вижу: километрах в восьми под самым горизонтом в зыбком мареве плывут два судна — большой белый пассажирский пароход и грузовой танкер.
— Прямо по степи шпарят! — восхищенно кричит Андрей. — Надо же!
Он заметил, что суда идут по не видимому нами каналу, но продолжает разыгрывать Юлю. Та удивленно смотрит то на меня, то на Андрея и вдруг, переведя взгляд на водохранилище, обрадованно говорит:
— Там вода. Ой, сколько воды!
Миша остановил машину. Он хорошо знал место, откуда открывалась панорама Волго-Дона. До усадьбы Гришиного совхоза, куда мы едем, по моим подсчетам, километров пять-шесть. Помню, это село должно быть на самом берегу водохранилища. Но отсюда его пока не видно. В нем я был во время строительства Волго-Донского канала. С тех пор прошло почти двадцать лет… Какое оно теперь… это приморское село?
Андрей упросил шофера дать ему руль, они меняются местами. Мы, пассажиры, с притворным ужасом соскакиваем на землю. Андрей хохочет вместе со всеми. Но, видно, он расстроен — хотел покрасоваться, прокатить нас, а мы сбежали.