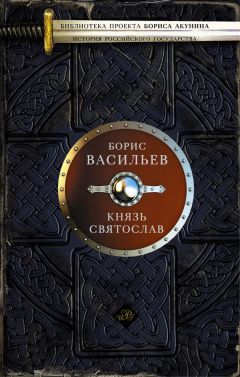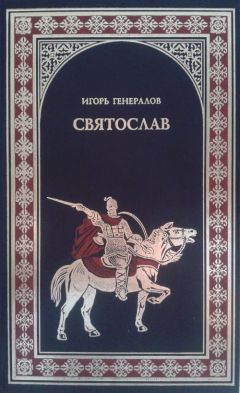Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 2
— Верно говоришь, — поддержал боярин. — Не растерялся великий князь.
Митя прижался к расцарапанной руке отца. Тот отстранил его, отошёл, держась за сердце.
— Что, Иван Иванович? — встревожился Дрюцькой.
— Грудь больно почему-то.
— Надорвался, может?
— Пройдёт. Подержи стремя да княжича подсади.
Дальше поехали подавленные, и радость благополучного исхода не прижилась. Боялись, как бы великий князь не расхворался. Что-то уж больно бледен да молчалив. Только Восхищенный продолжал буркотать в телеге, рассуждая как бы сам с собой:
— Делая людям добро, не рассчитывай на благодарность, не им стремись угодить, но Богу, и помни, как сам неблагодарен за великия милости Его. Надо жить духом, сообразуясь с надеждою вышнего избрания.
Никто никак не откликнулся на его умные речи. Только Иван Иванович вдруг нетерпеливо остановил коня.
— Всё! Отсюда пешком пойдём. Вылезай, монах. Маковец завиделся.
— Да я расслабленный, довезите уж меня, — засопротивлялся страдалец.
— Ну, как хочешь.
Князь спешился, Митя тоже спрыгнул со своей буланки.
— Убьёшься, смотри! — всполошился дядька.
— А я ничего не боюсь! Откуда хочешь прыгну! — беззаботно откликнулся Митя, разглядывая окрестности. — Это и есть Маковец?
Перед ними была пологая, заросшая лесом гора. И больше ничего не видать.
— А где же сама обитель?
— В скрытности живут, — сказал Восхищенный, приподнимаясь в телеге. — Прими меня, княжич! Подай руку-то немощному!
— А зачем в скрытности?
Дрожащая от слабости, костлявая ладонь оперлась на Митино плечо.
— От мира скрылась, чтобы меньше грешить. А всё равно всё про них знают и идут во множестве.
— А иноки не сердятся? Они же греха бегают? А идут все, поди, грешники?
— Если Бог очистит, ты уже не в скверне. Теперь у Сергия не отвергают ни старого, ни юного, ни богатого, ни убогого. Господь гневается не на нас, детей Его, а на зло, которое носим в себе, но всегда готов принять каждого, коль увидит на лице его слезу сокрушения.
— А преподобный зло в людях обличает? — всё сомневался Митя.
— Он так говорит: смиряй себя и всех почитай как превосходящих тебя и всячески берегись, как бы укорением не уязвить чьей-либо совести.
— А грешники что?
— Они все к нему припадают и почитают его чувствительно и сердечно.
— Где-то тут починки должны быть да деревни? — осматривался Дрюцькой.
— Починки за лесом, их не видать, а деревни — там, за горою. Выруби-ка мне палку какую, об неё обопрусь. — Восхищенный утвердился наконец на ногах, заковылял вослед князю.
День клонился к вечеру, дождь перестал, но всё ещё висели набухшие влагой облака. Серо-синие дали были прозрачны и чисты. Ели кололи пиками вершин низкое небо. Было грустно и тихо. Чуть уловимо наносило печным дымом. Сапоги звучно чавкали по грязи, но чем выше в гору, тем дорога становилась суше. Короткие и редкие удары деревянного била долетали из всё ещё невидимой обители. Чиж с Дрюцьким вели лошадей далеко позади.
— А вон там, в стороне, — махнул палкой Восхищенный, — Хотьковский монастырёк остался, где родители Сергия и Стефана упокоены. Он неприметный. Там и монахи и монахини спасаются... Однако смотри, какую широкую тропу тут протоптали, пока меня не было... Прости, и прощено будет, да... Вы отпустите — и вам щедро отпустится.
— Чего отпустится? — спросил Митя.
— Какой ты надоедливый, княжич! — раздражился монах. — Слушай да вникай. А сам помалкивай.
— Если бы ты знал, как ты мне надоел! — тихо проронил Иван Иванович.
— Значит, зря тебя Кротким прозвали. Кротость — это неподвижность душевного устроения. Кроткий одинаков пребывает и при бесчестии, и при похвале. А ты похвалу-то любишь не меньше, чем покойный братец Симеон Иванович.
— Несправедлив ты и пусторечив, обличитель. По какому праву всех судишь?
— Да я только для разговору молвил. Кого я сужу? Никого не сужу и не смею даже. Я знаю, что есть истинное сокрушение. Его только большим трудом улучить можно, когда будешь воздерживаться, бдеть, молиться и смирять себя, тогда лишь, иссушив сласти похотные, с плотию твоей сросшиеся, сораспнёшься Господу и перестанешь жить страстями. Вот будешь тогда сокрушён. Это не значит печалиться всё время. Это даже и грех, чрезмерная печаль, а страсти сокрушить и волю свою отринуть надо. А это тебе, великий князь, вовсе и невозможно, ибо волю свою ты иметь обязан. А со своеволием и страсти вползают, аки змеи, и душу сосут, и истощают.
— Значит, совсем надежды мне не оставляешь? — Иван Иванович метнул на него недобрый взгляд.
— Не я, не я! Что я? Пыль и прах.
— Ну, так и угомони себя.
— Угомонил. Всё. А слух-то чесать и бесы умеют.
— Батюшка, он и мне надоел, — сказал Митя.
— А ты дерзун, княжич! — тут же нашёлся Восхищенный.
Вдруг из-за сосен бесшумно вышли три тёмных человека. Митя даже вздрогнул, но сразу угадал монахов по их поклонам, по шелестящим голосам:
— Добро пожаловать! Нас преподобный послал лошадей ваших принять да позаботиться о них.
— А как он узнал, что мы идём? — удивился Митя.
— Сердце ему сказало.
Митя наконец разглядел под куколем лицо говорившего. Оно было молодо и измождено.
— Сердце сказало? — переспросил Митя.
— Оно. — Монах чуть приметно улыбнулся. — Уж и угощение для вас велено готовить. Похлёбка варится из белых грибов на огуречном рассоле.
— Фёдор, ты, что ли? — тихо спросил Восхищенный.
— Я, брат.
— Благослови, Господь. Вся ли братия здорова?
— Слава Богу. А вас дождём прихватило?
— Еле живы остались. Я вишь какой! Костолом замучил с самой весны.
— Отдохнёшь у нас. Выпользуем. У нас теперь часовенка выстроена во имя Лазаря Четырёхдневного[42], туда больных помещаем.
— Мы ноне ведь чуть не опрокинулись в овраг-то, — всё жаловался Восхищенный. — Я уж батюшку Сергия звать стал, возопил велико. И вишь, живы!
Монах молча кивнул и поспешил вслед за братией к лошадям.
— Это знаешь кто? — шёпотом оповестил Восхищенный. — Это ведь сын игумена Стефана. Хотя и рыкал он на Сергия, а сына к нему привёл, в Троицкий монастырь. Как сейчас помню, лет пять назад, как раз на Красную горку, его и постригли. Тогда же и на Сергия сан возложили. Уж так он отказывался! Епископ даже прикрикнул на него. И братия вся очень просила.
Через двадцать лет неприметный монах, племянник преподобного, станет основателем Симонова монастыря, одной из самых крупных и богатых московских обителей.
4
Всё был лес и лес, и вдруг он расступился, и дальше идти некуда — частокол. Плотный и высокий. А из-за него только купол церковный видать. Но вдруг и частокол расступился. Это ворота раскрылись. А кто их открыл, неведомо. Будто сами собой изнутри распахнулись.
Едва ступили в ворота, Митя ещё и глаза на чём остановить не знал, как Восхищенный радостно воскликнул:
— A-а, ба! Купец Иван Овца тута! Чего делает? Не иначе вклад привёз! — Будто ему этот купец родня дорожайшая.
Иван Иванович же быстрым шагом пошёл, почти побежал к высокому худому монаху и пал перед ним ниц в земном поклоне, прямо на мокрую траву, в белом своём атласном плаще.
«Это он!» — толкнулось в сердце у Мити. И тут же купец закричал диким голосом:
— Это он! Так это он? А я-то, несчастный?! Ах, ангелы святые, легионы! — И, схватив себя за голову, понёсся куда-то в глубь двора.
Восхищенный тихо смеялся и от счастья стал весь в морщинках, а Сергий всё повторял великому князю, обнявшему его колени, то ли «утишься», то ли «утешься» — не разобрать.
Но вот отец наконец поднял склонённую голову:
— Я Митю привёл благословить.
— Вот славно, — так же неразборчиво и быстро сказал Сергий. — Келии вам приготовлены. И снедь в трапезную уже подали. — Он как бы сам смущался и спешил, речь его была невнятна, благословляющее знамение легко, без касания. Только Мите он положил руку на голову. Дядька едва успел сдёрнуть с княжича шапку.
Митя сказал:
— У тебя рука тёплая.
Чёрный куколь качнулся, и улыбка тронула сухие уста Сергия.
— Будь ему духовником и заступою, — сказал отец каким-то незнакомым от волнения голосом.