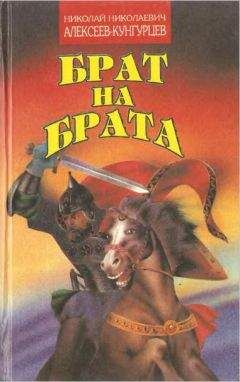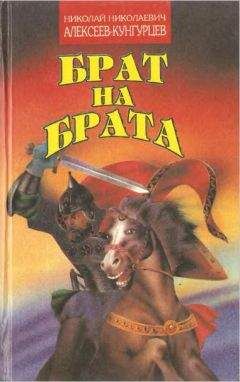Николай Алексеев-Кунгурцев - Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск.
— Смотри, осуши до капли! — добавила она.
— За твое здоровье, боярыня, — сказал он и осушил кубок.
— Ух, какой мед крепкий! Ажна дух захватило, — промолвил боярин, ставя пустой кубок обратно на стол.
— Старый медок, — проговорила Добрая. Глаза ее сияли. — Теперь закусим… Я, признаться, есть изрядно хочу. А ты? — продолжала она.
— Так себе, не очень.
— Так я тебя угощать стану, как бы мужа своего угощала, ха-ха! Вот этак: кушай, муженек мой дорогой!
И боярыня, поднявшись с лавки, с низким поклоном поставила перед Марком блюдо с каким-то яством.
— Кушай да женку свою люби! — добавила она и неожиданно поцеловала Марка Даниловича. — Ха-ха! Так бы я муженька ласкала!
— Шутница ты, Василиса Фоминишна!
— Ну, будет дурить! Поесть надо… Подвинься-ка, боярин.
Она опустилась на скамью плечом к плечу с Кречет-Буй- туровым.
Должно быть, она, действительно, хотела есть. Ее челюсти усердно работали, косточки так и похрустывали под ее крепкими зубами.
Марк Данилович ел мало. С некоторого времени им начало овладевать странное состояние. Казалось, в его жилах струилась не кровь, а огонь. Голова кружилась. Он с каким- то особенным вниманием стал посматривать на белые, пухлые руки боярыни, на ее роскошные плечи. А Василиса Фоминишна, словно нарочно, все плотнее прижималась к нему. Он чувствовал теплоту ее тела. Близость молодой женщины пьянила его. Еще мгновенье — и его рука сама собою обвилась вокруг стана красавицы. Боярыня повернула к нему голову, глянула на него горячим взглядом. Ее руки обвили его шею, щека прильнула к щеке.
— Милый! Любимый! — услышал он страстный шепот.
Он забыл все — забыл, где он, забыл Таню, непобедимая страсть охватила его. Он сжал боярыню в своих объятиях. Теперь он уже не слышал ее страстного лепета.
Головная боль у Тани утихла. Еще лихорадилось, но уже у боярышни отпала охота лежать. Ее тянуло к Марку. Она поднялась с постели, закуталась в плат и спустилась из терема. Когда она приближалась к светлице, из-за дверей доносился голос ее мачехи, поразивший боярышню своей интонацией.
«Словно хмельна она», — подумала Татьяна Васильевна и отворила дверь.
Отворила и остановилась на пороге, как прикованная, пораженная, похолоделая от ужаса. Она увидела сидевших на скамье Марка и Василису Фоминишну в объятиях друг друга.
У боярыни был торжествующий вид, и она смотрела на падчерицу с насмешливой улыбкой. Кречет-Буйтуров повернулся к дверям и увидел невесту. Лицо его приняло пристыженное выражение. Он понурился и схватился руками за голову.
Вдруг он вырвался из объятий боярыни, подбежал к Тане, упал перед нею на колени.
— Прости!.. — забормотал он. — Не знаю — бес, чары попутали… Не бывать счастью!.. Ох!
Это «ох» прозвучало отчаянным стоном.
Потом он бросился к выходу.
— Стой! Марк! Родной, куда! — остановила его Василиса Фоминишна.
Лицо молодого окольничего злобно исказилось.
— Прочь! Разлучница проклятая! Убью! — прохрипел он и, оттолкнув от себя боярыню, выбежал в сени.
— Нет, Марк… Этого не может быть… Ты мой, мой! — бежала за ним и кричала красавица.
Но он ее не слушал, спустился с крыльца, перебежал двор и скрылся за воротами.
— Марк! Марк! — несся вслед за ним отчаянный призыв Доброй.
Она хотела было спуститься с крыльца, но вместо этого прислонилась к стене и заломила руки.
— Ушел! Ушел! — прошептала она.
Этот шепот способен был оледенить душу.
Вдруг она разразилась неистовым хохотом.
— Мой! мой! Ха-ха-ха! Никто не отнимет! Ха-ха!
Этот смех был ужаснее слез. И долго звучал он по опустелому дому, а когда он затих, вместо боярыни Доброй стояла в сенях у крыльца другая женщина, мало ее напоминавшая, с бледным лицом, с растрепанными, выбившимися из-под кики волосами, в которых блестела седина, с дико блуждающими глазами. В это же время наверху, в светлице, тихо плакала Таня. Она сознавала, что жизнь ее разбита. Ее сердце было переполнено горем; надеждам не было места. Жить — казалось ей — значило мучиться. Недаром же она, упав перед иконой, жарко молилась:
— Пошли, Господи, мне смерть поскорей!
IX. ЗА МОРЕ
Борис Федорович Годунов был немало изумлен, когда ему однажды ранним утром доложили о приходе окольничего Марка Даниловича. Он велел его немедля звать.
— Здоров, а что?
— Да уж больно ты что-то с лица спал и побелел.
— Не от нездоровья это… — с тяжелым вздохом промолвил Марк Данилович, а потом добавил: — я к тебе с просьбой, Борис Федорович.
— С какою?
— Дозволь уехать. Опять за море.
— Да что это ты вздумал! А как же свадьба?
— Свадьбе не бывать! — печально ответил Марк.
Годунов даже привскочил от удивления.
— Да что ты говоришь? Как не бывать?
— Так, не бывать.
— Разлюбил невесту, что ль?
— Пуще прежнего люблю.
— Кажись, ты меня морочить хочешь. Сам горевал прежде, что сватовства не приняли, а теперь на!
— Изменилось все ныне.
— Да что случилось?
— Борис Федорович! Будь отцом родным! Не спрашивай, не терзай сердца моего! Одно скажу, нельзя мне теперь жениться на Татьяне Васильевне — совесть зазрит. Ах, кабы ты знал, Борис Федорович, что на душе у меня делается! И не знаю, что со мной такое сделалось — чары какие-то обуяли!.. Теперь жениться мне на Тане — свершить грех великий.
— Ничего понять не могу! — пожав плечами, сказал Годунов.
— Прикажешь все сказать, я должен буду сказать все, но только лучше не приказывай.
— Бог с тобой! Не хочешь говорить — не неволю. Так уехать хочешь за море? Надолго?
— Не знаю… Может, и навсегда.
— Ну уж это не дело! Как ла свою родину не вернуться? Жаль, жаль, что уезжаешь! Остался бы!
— Нет, Борис Федорович, не могу — останусь здесь, изведусь.
— Эх, Марк Данилович! Чудной ты человек! Бог с тобой, поезжай, коли такая охота!
— Спасибо, Борис Федорович.
— Зайдешь еще проститься?
— Я ведь живо махну. Лучше уж сегодня и распрощаемся.
Когда Годунов прощался с Марком, на глазах приятеля блестели слезы.
— Эх, Марк Данилович, не того, признаться, я ожидал от тебя! — промолвил он.
— Что делать! Не я виноват, судьба всему виной, — ответил молодой окольничий.
От правителя Кречет-Буйтуров зашел к Топорку.
Тихон Степанович, по-прежнему веселый и добродушный, радушно встретил его. Разговор между ним и Марком несколько напомнил недавнюю беседу Кречет-Буйтурова с правителем. Подобно Годунову, Топорок очень удивился отъезду Марка Даниловича, пустился расспрашивать, почему приятель раздумал жениться. Отвечал ему Кречет-Буйтуров почти так же, как и Борису Федоровичу. Когда расспросы кончились, он сказал:
— Хочу я тебя попросить кое о чем.
— Рад сделать, коли смогу.
— Жаль вотчину оставить без хозяйского глаза. Там я завел и то, и другое, все это без меня порушится. Просить хочу, не присмотришь ли за вотчинкой? Владей ею, как своей… Коли не вернусь через десяток лет, бери ее совсем себе.
— Ой, как же это так!
— Да что ж? Не вернулся я, стало быть, вотчина мне не надобна. А на тебя я положиться могу, что ты заведенных порядков не нарушишь.
— Ну, вестимо! Как ты завел, так все и оставлю.
— Вот этого-то мне больше всего и охота. Возьмешься — спасибо тебе скажу большое.
— Мне тебе надо спасибо сказать — этакий доходище ты мне в руки даешь!
Таким образом приятели сговорились.
Через четверть часа после разговора с Топорком Марк Данилович стучался в одну из келий Чудова монастыря. Когда дверь отворилась, его встретил сильно поседелый старик- монах с худощавым, спокойным лицом.
— А, Марк! Навестить пришел? Спасибо! — промолвил старик.
— Проститься пришел, дядюшка, — ответил тот.
Старик этот был не кто иной, как боярин Степан Степанович Кречет-Буйтуров, превратившийся в инока Савватия, забывший былые, прежде им столь любимые, мирские удовольствия и заботы и нашедший в тихой обители покой для сроей потрясенной горем души.
Александра Андреевича Турбинина, который жил в материнском доме, со времени погибели Кати, настоящим затворником. Оставаясь в миру, он жил монахом; горе превратило цветущего юношу в старца. Целью жизни и утехой его было добро во всех видах. Его имя на много верст в окружности произносилось с благоговением. После тяжких бед и Степан Степанович и Александр Андреевич нашли свое счастье, нашли не там, где искали.
Найдет ли его Марк Данилович?
Он отправлялся на его поиски.
Был серенький день, когда Кречет-Буйтуров, в сопровождении Топорка и толпы крестьян, выезжал из своей усадьбы, отправляясь в далекий путь. Он выезжал с тяжелым чувством и грустно поглядывал вокруг себя: придется ли еще раз все это увидеть?