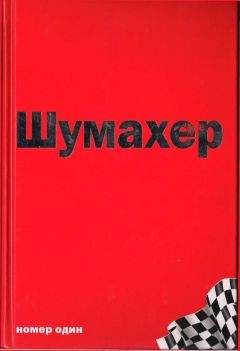Umberto Eco - Имя розы
Мы прошли по остальным комнатам библиотеки, на ходу продолжая совершенствовать карту. Нам попадались комнаты, целиком отведенные под математику и астрономию, комнаты, заполненные арамейскими книгами, в которых ни я, ни он не могли понять ни слова, и другие, с такими книгами, на таких языках, которых мы даже назвать не смогли бы. Вероятно, это были книги откуда-нибудь из Индии. Так мы миновали две слитых последовательности IUDAEA и AEGYPTUS. В общем, чтобы не утомлять читателя хроникой нашей разведки, скажу только, что позднее, когда мы вычертили и заполнили окончательную карту, стало ясно, что библиотека действительно построена и оборудована по образу нашего земноводного шара. На севере располагались «Англия» и «Германы», которые западными границами прилегали к «Галлии», из «Галлии», с крайнего запада, можно было попасть в «Гибернию», а с крайнего юга – в «Рим» (ROMA), сокровищницу латинских классиков, и в Испанию. Дальше на юг лежала страна Львов (LEONES), Египет (AEGYPTUS), за которым на востоке простирались Иудея (IUDAEA) и Земной рай (FONS ADAE). От востока до севера в стене, связующей башни, располагалась ACAIA[79] – прекрасная синекдоха, по словам Вильгельма, изобретенная для обозначения Греции. И на самом деле, в этих четырех комнатах в дивном изобилии были собраны труды поэтов и философов языческой древности.
Порядки чтения могли быть самые причудливые: то надо было двигаться в одном направлении, то в противоположном, то по кругу; часто, как я уже говорил, одна и та же буква входила в начертание двух совершенно разных слов (в этих случаях в разных шкалах одной комнаты находились сочинения по разным предметам). Однако, по всей очевидности, не следовало выискивать какого-то золотого закона размещения книг. Речь могла идти об обычной мнемонической уловке, помогающей библиотекарю быстро находить необходимое. Получив указание, что книга помещена в «quarta АСАIАЕ», ищущий направлялся в четвертое по порядку помещение, считая за первое то, к которому относилось первоначальное А, а что касается направления отсчета, тут уж библиотекарь должен был опираться на собственную память и сам знать, куда ему двигаться в каждом отдельном случае – прямо, обратно или по кругу. Например, АСАIА представляла собой четыре комнаты, расположенные квадратом, из чего вытекало, что первое А и последнее А – в данном случае одно и то же; впрочем, подобные казусы мы смогли обнаружить и выучить сравнительно быстро. Точно так же за малое время мы сумели разобраться в системе перегородок. К примеру, двигаясь с востока, ни из одной комнаты ACAIA нельзя было проникнуть в западные комнаты; в этом месте лабиринт оканчивался глухой стеною, и чтоб добраться до северных покоев, следовало повернуть в совершенно обратную сторону и пройти через прочие три башни. Но, разумеется, все библиотекари отлично знали, как, входя через FONS, добираться потом, скажем, до ANGLIA через AEGYPTUS, YSPANIA, GALLIA и GERMANI.
Этими открытиями и прочими, им подобными, наш поход в башню победительно увенчался. Но прежде чем рассказать, что случилось после того как в великом удовлетворении мы оставили библиотечные залы (а случились важнейшие события, в которых и нам пришлось принять участие, о чем я скоро расскажу), я обязан сделать одно откровенное признание своему читателю. Я уж писал, что в ходе нашего обследования библиотеки, с одной стороны, все было подчинено разгадыванию законов лабиринта и поиску загадочного тайника, а с другой стороны, мы сплошь и рядом останавливались в различных залах, в которых сначала определяли принадлежность книг и их предмет, а потом просто перелистывали книги, любые, какие только попадались, как будто бы исследуя природу неведомого континента, terra incognita. Обычно мы продвигались по этому непознанному континенту в полном взаимном согласии, нас увлекали одни и те же книги, я указывал учителю на самые интересные, он объяснял мне все то, что было непонятно.
Однако в некоторую минуту – а точнее говоря, при продвижении по кольцу, образованному залами южной башни, носившей имя LEONES, – мой учитель неожиданно застрял в одной из комнат и никак не мог сдвинуться с места, очарованный трактатами арабских мудрецов по оптике: эти книги изобиловали роскошнейшими, четкими, замысловатыми рисунками. Поскольку в этот вечер у нас на двоих имелся не один, а целых два светильника, я потихоньку, поддаваясь порыву любопытства, перекочевал в соседнюю комнату и увидел, что там высшие соображения разума и осмотрительности подсказали строителям библиотеки густо поместить на полках, тянущихся вдоль одной из стен, те труды, которые ни под каким видом не следовало выдавать для прочтения кому попало, ибо в них тысячью разнообразных способов рассказывалось о всевозможных заболеваниях, как душевных, так и телесных, и почти что всегда повествовалось об этом устами ученых язычников. Взгляд мой внезапно упал на книгу невеликих размеров, снабженную миниатюрами, совершенно не совпадающими по смыслу (Хвала Господу!) с тем, что описывалось в тексте: на рисунках были цветы, лозы, пары животных тварей, лечебные растения; книге же название было Зерцало Любви, составления какого-то брата Максима Болонского, и содержались в ней отрывки из множества известных сочинений, посвященных любовной болезни. Как понимает читатель, не могло быть найдено более мощного средства для того, чтобы пробудить во мне болезненное любопытство. Больше того, название этой книги как ни одно иное смогло разгорячить мою душу, с утра снулую, отупевшую, и снова разбередить ее воспоминанием о случившемся ночью.
Поскольку в течение дня я отгонял от себя утренние мысли, убеждая себя, что они не приличествуют здравому, рассудительному послушнику, и поскольку, с другой стороны, события этого прошедшего дня были до того изобильны и ярки, что я целиком развлекся ими и аппетиты мои утихли, – я уже было полагал, что освободился и что прежние мои тревоги были одно преходящее, мирное беспокойство. Однако на самом деле стоило мне хоть и краешком глаза увидеть эту книгу, как все переменилось и я сказал сам к себе: «De te fabula narratur»[80], и я обнаружил, что болею любовным недугом еще серьезнее, чем полагал. После этого, за много лет, по многим другим чтениям я убедился, что, читая книги по медицине, почти всегда начинаешь испытывать те самые боли, о которых рассказывается. Совершенно таким же образом чтение этих листов, исподтишка, в спешке, со страхом, что Вильгельм перейдет в эту комнату из соседнего помещения и заинтересуется, чем это я настолько пристально занят, целиком убедило меня, что я страдаю в точности этим описанным недугом, все признаки которого были так прекрасно перечислены, что я, с одной стороны, встревоженный обнаружившейся у меня болезнью (с такой необыкновенной точностью засвидетельствованной великим множеством знаменитых сочинителей), с другой стороны, в то же время, не мог чистосердечно не восхищаться, наблюдая, как подробно и ловко описывается мое положение: вместе с тем я открывал для себя и убеждался, что, хотя я и болен, болезнь моя, можно сказать, достаточно обыкновенна, ибо неисчислимое количество людей до меня переносило точно такие же муки, а собранные в книге сочинители, те вообще, казалось, именно меня избрали за предмет своих описаний.
В несказанной растроганности я прочел те листы, на которых Ибн Хазм определяет любовь как хворобу возвратную, с приступами, от которой лекарство в ней самой, от которой скорбящий сам не желает выздоравливать, и повергнутый ею не желает восставать (и единый Бог свидетель, до чего справедливо это сказано!). Читая его слова, я смог наконец уяснить природу собственной взволнованности нынешним утром, смог понять природу образования любви, попадающей в тело через глаза, о чем свидетельствует Василий Анкирский. Я узнал, наконец, бесспорные симптомы болезни: всякий охваченный этой напастью часто выказывает неуместную веселость – и в то же самое время мечтает оказаться в стороне; он предпочитает одиночество (как предпочитал и я в тот день утром); еще отмечаются такие признаки сказанного состояния, как жестокое беспокойство и чувство потерянности, вплоть до потери дара речи… Я устрашился, прочитав, что чистосердечного любовника, которого лишили лицезрения возлюбленного предмета, обязательно ждет истощение душевных сил, которое укладывает его в постель почти без чувства, и тогда болезнь захватывает мозг, наступает безумие и горячечный бред; я, по всей вероятности, до таких степеней еще не дошел, поскольку во время всего похода в библиотеку работал успешно и кое-что соображал. В то же время с величайшим испугом и смятением я прочитал, что если болезнь усугубится, следствием может быть смерть, и задался вопросом, стоит ли та огромная радость, которую мне доставляла девица, когда я о ней думал, окончательного телесного самопожертвования, не говоря уже о разумных опасениях за сохранность моей души.