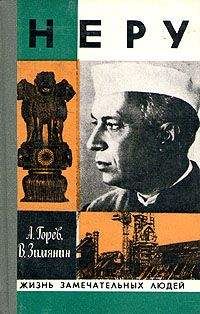Теодор Парницкий - Серебряные орлы
И действительно, только верность чужих спасла Оттона Рыжего в страшный час поражения. Когда он триумфальным походом прошел Италию до самого южного моря, греки, избегая прямой схватки с ним, искусно натравили на него почитающих Магомета сарацинов. Император, в первый миг одерживая победы, неожиданно угодил в ловушку, такую опасную, что недолгий триумф превратился в кровавый разгром, страшно кровавый. Точно мощные деревья, сваленные бурей, легли возле своего предводителя германские епископы, князья, маркграфы, графы. Пал бы и сам Оттон Рыжий, под ним уже убили коня, по кто-то из придворных, не имеющий на себе лат, отдал ему своего, попросил только, чтобы государь Оттон позаботился об его детях. Этим придворным был Калоним.
Аарон живо представил себе образ безоружного человека, вслушивающегося в топот удаляющегося коня. Стоит между горами трупов, бледный, нет, даже серый, трясущийся, обмирающий. Закрыл лицо руками — нет, он не взглянет в глаза смерти. Вот к нему уже подскакивают, рубят… Аарон вздрогнул: неужели этот иудей знал, где он очутится через минуту? Одно он знал наверняка: он сохранил верность императору, и Оттон Рыжий сохранит верность ему — позаботится об его детях.
Конь иудея прыгает в море, рассекает волны, из последних сил доплывает до корабля. Чей это корабль? Наверное, императорский: глаза Оттона Второго застилает такой туман, так помрачены его мысли, что он не может распознать корабль. Его втаскивают на палубу. Он уже открывает рот, чтобы отдать приказ направиться к городу Россано, где его ждет Феофано… И вдруг осенило: да ведь это же греческий корабль! Черные бороды, оливковые лица, просторное облачение командующего кораблем наварха… Его уже окружают тесным кольцом, отбирают меч, напевными гортанными голосами спрашивают, кто он такой… «Воин из дружины Оттона Рыжего», — отвечает он. «А что с вашим королем?! — «Наверное, погиб, раз пало столько доблестных рыцарей…» Они подозрительно разглядывают дорогую одежду, богатое оружие. «Зайдем в большой порт, узнаем, кто ты такой…» Наварх приглашает германского рыцаря к столу, угощает изысканными кушаньями и кипрским вином, обильно приправляя обед ядовитыми насмешками над варварским князьком, который осмелился украсить свою саксонскую башку священной римской диадемой. «Кичились саксы, кичились, хвастливо железом бряцали, а вот один удар — и развеялась вся гордыня германская! Пиво вам, наверное, головы затуманило, что вы так славно, послушно дали заманить себя в западню… Орали, что Рим уже навеки ваш, ко всей Италии лапы тянули, а сейчас грызете с вашим самозваным императором италийскую землю, с теми же, что остались, мы и без сарацинской помощи управимся, навсегда вас за Альпы прогоним…»
Вечером Оттон Рыжий вышел на палубу. Полной грудью вдыхал он солоноватый воздух, смотрел на звезды, на прибрежные огни, радовался тому, что жив. II вдруг увидел подле себя какую-то фигуру. Она преклонила колени и поцеловала ему руку. «Я узнал тебя, государь, германский король». Оттон Рыжий резко отдернул руку от губ коленопреклоненного. «Коли узнал, то убей, но не забывай, что ко мне надлежит обращаться «священная императорская вечность». — «Ты не императорская вечность, император в Константинополе». Оттон Рыжий удивился: «Если ты меня не почитаешь, то почему преклоняешь колени, почему целуешь руку?» — «Я не перед императорским величеством преклоняю колени, а перед твоим несчастьем, перед страданием уязвленной твоей гордости. Жаль мне тебя так, что душа раздирается. Слушай: когда мы придем в порт, тебя узнают. Тогда плачь, Феофано, никогда не увидит она своего супруга. Сгинешь ты, король Оттон, в восьмигранной Евдомской башне. Будь осторожен, через час мы пристанем к берегу, будем брать воду, и я помогу тебе бежать». Оттон Рыжий вытянул руки, поднял человека с колен и поцеловал в губы. «Кто ты, странный человек?» — прошептал он, полный растроганности. Тот пожал плечами: «Что тебе в моем имени?» — «Так скажи хотя бы, какое племя родит таких людей?» — «Я славянин».
Бежал Оттон Рыжий с корабля. Добрался до Россано, поцеловал руки Феофано, спросил, горько улыбаясь: «Рада моему поражению, гречанка?» — «Рада твоему спасению, супруг».
Еврей и славянин спасли его. Но ни еврей, ни славянин не спасут его сына. Еврей-врач его не спасет, хотя и пришел вовремя. Славянин Болеслав не спасет, потому что не пришел вовремя.
— Болеслав, почему ты не пришел? — доносится из-за занавесей душераздирающий крик.
И сразу же другой крик. Еще ужаснее, чем все, что доселе слышали поседелые в жестокой резне воины. Крик, так хорошо знакомый Аарону:
— Дверь… дверь… кто открыл дверь?
Теперь Аарон знает, что означает этот крик — из чего, где и когда он родился. По прибытии в Орвието он рассказал папе о безумном страхе, который охватил Оттона, когда Аарон, перешагнув через храпящего графа Бертела, толкнул двустворчатую дверь.
— Это моя вина, — грустно объяснил ему Сильвестр Второй, — забыл тебя предупредить. Государя императора никогда нельзя резко будить. Этот пронзительный страх от внезапного пробуждения у него от матери. Я часто думал, не скрипнула ли неожиданно дверь императорской опочивальни в ту ночь, когда зачала Феофано сына. Если это действительно так, то я располагал бы большими сведениями о странностях души Оттона, чем насмешки розовых мальчишек над его оливковой кожей.
Пятилетний король Германии и Италии весело праздновал воскресение Господне в саксонском городе Кведлинбурге. Гордо восседал он на высоком стульчике за пиршественным столом. Самые могущественные сановники королевства ревностно прислуживали сыну и внуку Оттонов. Генрих Баварский собственноручно разрезал сладкие булочки и подсовывал топенькие ломтики к королевским губкам; палатин Гецил, наполняя вином чаши пирующих, палил чуточку и в королевский бокальчик, чем страшно разгневал бабку короля Адельгейду. После пиршества герцог Бернард Саксонский, исполняя обязанности королевского конюшего, несколько раз провел по двору жеребенка, на спине которого с гордой миной покачивался король. Еще приятнее, чем на жеребенке, было сидеть высоко-высоко между двумя горбами уродливого коня со смешной длинной шеей. Это был дар Мешко, славянского князя. Когда короля снимали с верблюда, бабка Адельгейда шепнула: «Поблагодари, поцелуй в лоб, он верно тебе служит: мерзостных славянских язычников сотнями сажает на кол…»
По случаю праздника королю позволили лечь позже обычного. Но и позднее Оттону не хотелось спать: ему виделись долгие, далекие путешествия на спине верблюда, еще звучал в ушах рассказ Мешко о таких удивительных странах, где нет ни лесов, ни зеленых лугов, даже одиноких кустов нет, а все песок, песок, песок… Зажмурясь, он представлял себе, как едет, покачиваясь между горбами, по такой плоской стране, а Мешко шагает перед ним, ведя под уздцы удивительного коня…
Неожиданно маленький Оттон услышал в соседней комнате голоса. Он узнал их: мать что-то рассказывала, бабка же время от времени прерывала ее возгласами, топ которых насторожил короля. На цыпочках приблизился он к двери и заглянул в щель. И еще больше встревожился: у обеих лица какие-то испуганные, у матери, которая рассказывала, даже больше, чем у бабки. Он охотно бы открыл дверь, прыгнул бы матери на колени. Но боялся бабки: получит хороший шлепок, она строго запрещала ему выходить из спальни, когда он должен спать. И тогда он стал вслушиваться в рассказ матери. Чем дольше слушал, тем больше охватывала его тревога, потом страх — хотелось плакать, кричать, но он не заплакал, не крикнул, только шмыгал носом, вытирал кулаком слезы, стараясь соблюдать тишину: бабка больно била его за плач и крик. Немногое он понял из материнского рассказа, но то, что понял, так выразительно запечатлелось в его памяти, как, пожалуй, мало что из всего раннего детства. То, что запомнил, навсегда показалось ему таким страшным, и как только вспоминал об этом — а вспоминал он обычно перед сном, — то трясся, укрывался с головой, свертывался в трясущийся клубок. Самым страшным из всего был некий Никифор, кричащий: «Дверь… дверь… кто открыл дверь?..» Воскликнул он это за минуту до того, как они ворвались, сбросили его с постели на какую-то шкуру, пинали, выбивали зубы, кололи мечами… В десять лет Оттон попросил мать рассказать ему о событиях той ночи, когда убивали Никифора[Никифор Фока — император Византии с 963 по 969 г.]. Она посмотрела на него удивленно, ошеломленно, рассерженно, а вместе с тем будто чем-то напуганная. Резко сказала, что он слишком мал, чтобы слушать такие рассказы. Но Оттон настаивал, плакал, катался по полу с диким криком. Феофано, которая никогда не била его за плач, да и вообще ни за что не била, испугалась, подняла, прижала к груди, стала успокаивать, пообещала рассказать. И действительно рассказала. С явной неохотой, торопливо, коротко и сухо — по блеклые картины из ее рассказа сливались у Оттона в одно целое с живыми, выразительными воспоминаниями о том, что он подслушал пятилетним ребенком в Кведлинбурге. И вот создалась однородная, яркая и такая страшная картина, которая тяготела, как и предполагал Сильвестр Второй, над всей дальнейшей жизнью Оттона.