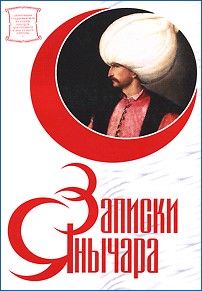Иван Наживин - Иудей
Иоахим был прекрасен. Береника протянула ему руку.
— Более, чем когда либо, рассчитывай на меня, — сказала она. — Язона я беру на воспитание…
— Хорошо! — отвечал Иоахим. — А теперь нам нужно обсудить ещё одно дело. Что Веспасиан сломит иудеев, в этом нельзя, конечно, сомневаться и минуты. Но… вам нет никакого расчёта, чтобы покоритель Иудеи — он человек обстоятельный и в делах видит ясно — потихоньку подготовлял себе путь на Палатин. Раз думает об этом Виндекс, то нет основания не думать Веспасиану. Так вот нам и нужно из осторожности иметь около него своего человека, который в нужный момент мог бы нас от старика… освободить.
— А Иосиф? — лукаво засмеялась Береника.
— Неужели ты думаешь, что Иосиф способен на решительный удар?
— Ни в малейшей степени… Но Иосиф очень способен найти людей, готовых на решительный удар… А он станет поодаль и произнесёт речь о том, что это воля Божия…
— А как бы нам побеседовать с ним?
— Это нелегко: его крепко караулят свои… Но можно осторожно послать к нему моего управляющего Птоломея. Люди Иосифа чуть было не разграбили мой с братом караван, но Птоломей ловко уладил все дело с Иосифом и сокровища наши дошли по назначению.
— Как бы ты ни доверяла своему Птоломею, но все же лишний человек в деле — это всегда лишний человек, — сказал Иоахим. — Я не забыл ещё истории с проклятым Мнефом, о которой я рассказывал тебе.
— Тогда мы вызовем Иосифа сюда, — сказала Береника. — Он только и ищет случая сдаться…
— Так. Но Веспасиану надо внушить, что это наш человек и чтобы его в случае сдачи щадили. А то у них самое любимое занятие это — растянуть на кресте…
— Я позабочусь об этом… А сегодня вечером пришли ко мне Язона побеседовать.
— Хорошо.
Он встал и долго с восхищением глядел на пышную сияющую красавицу. И вдруг уронил:
— Ах, если бы мне самому годков двадцать с плеч скинуть!
Береника весело рассмеялась: она ждала этого. Но у неё на жизнь были свои взгляды.
— О, да! — воскликнула она. — Тогда все дело решалось бы просто…
И Иоахим с грустью понял, что невозможное — несмотря на все несметные богатства его — невозможно…
— Итак, помни, — повторил он с подавленным вздохом, — что день, когда ты Августой поднимешься на Капитолий принести жертву великим богам, будет все же счастливейшим днём моей жизни. Прощай.
LIX. БЕРЕНИКА
Язон, хмурый, поднялся по мраморной, застланной коврами лестнице во дворец Береники. Отец его был прав: гамадриада сумела в короткое время отравить его тихую жизнь созерцателя окончательно. Все, что ему теперь хотелось, это отдохнуть от всего, забыться, уйти от себя. Огромные замыслы отца, в которых ему было отведено первое, небывалое место, тяготили его. Он видел достаточно, что происходило в Риме, в Ахайе, а теперь тут, в стране отцов, и не имел желания принимать участие в этой страшной комедии. Но у него не было сил отказаться от всего прямо: старик так увлёкся своей грандиозной идеей, что отнять у него эту игрушку было просто жестоко. Да и искушение временами поднималось: разве спокойный, разумный человек, который ничего для себя не хочет, не мог бы немножко улучшить удел человеческий?
— О, какой милый гость! — встретила его Береника. — Но ты что-то печален… Ах, понимаю, понимаю:
…В отсутствии той, кого любишь ты, все ж её образ
Будет с тобою и будет звучать её нежное имя…
А он невольно застыл на пороге: Береника шла к нему навстречу в белой прозрачной тунике из бесценного виссона — он ценился дороже золота, — которая не скрывала ни единой подробности её тела, но, наоборот, казалось, подчёркивала его потрясающую красоту.
— Ну, идём на террасу, — проговорила она. — Я рада побеседовать с моим милым философом… Кстати: какие последние новости с войны?
— Иосиф заперся в Иотапате, а римляне обложили её.
— Ну, так… А теперь садись… Посмотри, какой закат… Я рада подышать немножко свежим воздухом: день был невыносимо жаркий. А море, море!.. Мы, бедные женщины, лишены возможности участвовать в больших делах, которыми играете вы, и потому я лёжа читала и перечитывала сегодня Горация и — вспоминала тебя…
— Меня? Почему?
— Потому, что слишком уж большое значение придаёшь ты всем этим твоим игрушкам, — проговорила она, подвигая ему вазу с фруктами и вино. — Ты помнишь, как у Горация пловец сожалеет об участи тарентинского философа Архиты, кости которого он видит на песке Апулии?.. Так как такая же участь ждёт не только философа Архиту, но и всех нас, то не лучше ли, милый философ, не пренебрегать радостями жизни, как это делаешь ты? Не лучше ли прожить жизнь свою ярко и широко, хотя бы в результате поэмы этой и были опять-таки все те же кости на матинском берегу?.. А пока — выпей этого вина…
И вместе с ним она пригубила из своей чаши.
— Ты ошибаешься, считая меня каким-то спартанцем, который не знает другой радости в жизни, как служить своей Спарте, — отвечал Язон. — Радости жизни многоразличны, Береника.
— Я не исключаю никаких радостей точно так же, — сказала Береника. — Я думаю, что я верная ученица Эпикура. Прекрасно это вино, прекрасен этот закат над морем, прекрасен стих Горация, но… я была бы не откровенна с тобой, если бы я не сказала, что глубочайшей из радостей в бытии человеческом я все же считаю радость разделённой любви… от которой ты только что вкусил, — бросив на него лукавый взгляд, прибавила она.
Он омрачился. Этими неосторожными словами она разбудила в нем воспоминание о её страшном для него прошлом. Но он сказал:
— То, что я вкусил, больше всего и показывает мне, как обманчивы все эти столь восхваляемые радости.
— Я благодарю тебя за твою дружескую откровенность, милый гость мой, но вот эта кифара в руках музыканта — одно, а в руках невежды — только доска с натянутыми струнами, — сказала Береника. — Любить надо уметь… Ах, любовь!.. Сколько прекрасных образов и поэм создала она! Тифон, троянец, был похищен Авророй на небо, но, испросив для него у Зевса бессмертия красавица богиня забыла испросить вечной юности, когда он от старости съёжился, она превратила его в кузнечика, которого мы любим слушать в летние ночи. Вакх взял в супруги себе Ариадну и, чтобы доказать милой своё божественное происхождение, он бросил её повязку о девяти алмазах на небесный свод, и ещё немного — и мы с тобой увидим её на небе, эту прелестную повязку Ариадны. Но что там мифология, когда мы с тобой чуть-чуть не были свидетелями земной поэмы, которая будет жить века!
— О чем говоришь ты?
— О Клеопатре… Ах, эта первая встреча с суровым римлянином! Он явился к ней именем грозного Рима, она выходит к нему вся обнажённая, и — забыт Рим, забыт долг, забыто все на свете, и начинается волшебная сказка любви. Он дарит ей целые страны, он весь у её ног, её радость и улыбка для него высшая награда. А битва при Акциуме, когда он отрядил семьдесят сильнейших кораблей для охраны милой?.. Я на её месте не дрогнула бы, не побежала бы, и, конечно, исход битвы был бы совсем другой, и она — или я — поднялась бы Августой на Капитолий…
— А потом?
— Никакого «потом» нет, мой милый философ, — сказала Береника. — Есть только «теперь». Потом будут обнажённые кости на неведомом берегу. И если бы даже все, что осталось от Клеопатры, была бы только ода Горация «К друзьям», то и тогда жизнь её была прожита как будто недаром. Ты помнишь её?
Теперь давайте пить и вольною ногою
О землю ударять…
Чарующий голос, солнечное вино, пылающий над морем закат и это пленительное тело пьянили Язона. Все давние мечты его о прекрасной царевне воскресли и зацвели. Но воскресло и прошлое её. Скольким читала она так оды Горация? Перед сколькими представала она в этих прозрачных одеждах? Скольких звала она так к кубку наслаждения?.. И дрогнули его брови, и потемнели глаза,
— Наша встреча с тобой, царевна…
— Теперешняя или та, давняя, когда ты был ещё Маленьким Богом, прекрасным, как… как я не знаю что… Ты видишь, я не забыла…
— И я помню все, — сумрачно сказал он. — Ив этом-то, может быть, и главное несчастье моё…
Она чуть нахмурила брови, стараясь понять эту вдруг прорвавшуюся в словах его горечь. И вдруг — поняла… Румянец залил прекрасное лицо, опустилась прекрасная, вся в золоте кудрей головка и в сердце защемило. Странно сказать, но и её, победительницу, её, уже растерявшую как будто свои молодые мечты о счастье небывалом, иногда посещала эта грусть о растраченных богатствах любви…
— Мне кажется, что ты поняла меня, Береника, — с грустью сказал Язон. — В нашей встрече с тобой все необычно — пусть необычно все это и кончится. Я… я признаюсь тебе: твой образ я носил в сердце своём долгие годы. Я пронёс его — после встречи в Афинах — дикими степями Скифии, безбрежными германскими лесами, я носил его, как святыню, среди безумий Рима и в солнечном уединении Тауромениума…