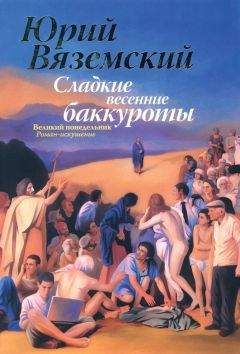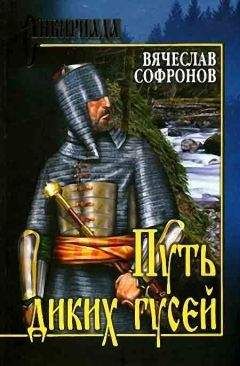Юрий Вяземский - Великий понедельник. Роман-искушение
Пилат виновато усмехнулся и, переходя на латынь, продолжил:
– Я не «префект Рима». Я префект Иудеи, которой мы с тобой вот уже четвертый год совместно управляем по поручению великого цезаря… И, как мне представляется, довольно успешно. Потому что мы всегда сотрудничали. Потому что уважали друг друга. И каждый радел о своих обязанностях, не вмешиваясь в чужие дела. Но в трудные минуты всегда приходили друг другу на помощь.
Каиафа торжественно молчал, прямо и внимательно глядя в сторону Пилата, но не в лицо ему и не мимо лица, а так, чтобы уважительный взгляд его, с одной стороны, чувствовался и ощущался, а с другой – не навязывал себя и не беспокоил собеседника.
– Были, конечно, некоторые недоразумениям в наших взаимоотношениях, – сказал Пилат, глядя вбок, в сторону галереи.
Стул и кресло были так расставлены, что лившийся из колоннады солнечный свет никого не слепил. Но кедровый стул был намного лучше освещен, чем курульное кресло, и пышное одеяние первосвященника, его величавое лицо, массивный нос, алые полные губы, окладистая шелковистая борода были словно специально подсвечены солнцем так, что в бороде даже сверкали и искрились капельки благовоний. Пилат же на своем креслице-табурете не был так подробно освещен, и его фигура затенялась и несколько терялась в широком и гулком пространстве.
– Некоторые, правда, предпочитают называть эти недоразумения ошибками, – продолжал говорить префект Иудеи. – И даже утверждают, что эти ошибки произошли якобы по моей вине. Но пусть это останется на их совести. Или, как вы говорите, пусть Бог им будет судьей… Потому что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И когда какой-то поступок совершается по незнанию, нельзя обвинять человека в том, что он это сделал сознательно, из каких-то там злых побуждений или коварных расчетов. Такие обвинения – намного большая несправедливость, чем тот поступок, который человек по незнанию своему совершил.
Каиафа безмолвствовал и не шевелился.
– Ну вот, хотя бы случай со знаменами. – Пилат опять усмехнулся и еще более виновато. – Я тогда только что вступил в должность и не все ваши обычаи успел вполне изучить. Валерий Грат, конечно, предупредил меня, что в Город нельзя вносить никакие изображения. Но я подумал, что крепость Антония, во-первых, далеко от Храма, а во-вторых, расположена, собственно говоря, за пределами Города, в предместье, у второй стены. Разве это Город, если вы сами называете этот район предместьем?
– Крепость Антония с севера окружена стенами Езекии и Манасии. Стало быть, это Город и священная территория, – торжественно и сурово объявил Каиафа.
– Но я-то не знал! Я думал – предместье! – с досадой воскликнул Пилат. – И потом: тогда только что ввели изображения императора. И я подумал: они договорились снимать орлов, но как можно снимать со знамен священные портреты? Чья это вообще территория, на которой надо стыдиться императорского лика?!
– Священный город Иерусалим – территория Всемогущего Бога, – глубоким басом по-латыни объявил первосвященник и тихо прибавил к сказанному одну фразу на арамейском, которую Пилат не должен был понять, но должен был расслышать, что она произнесена.
– Заметь, я ввел войска через Рыбные ворота, и сделал это ночью, чтобы никого не смущать, – обиженно продолжал Пилат. – И слова мне никто не сказал на следующий день: ни ты, ни Ханна, ни Наум. К вечеру только в преторий пришел Ирод Антипа и в обычной своей манере болтал о каких-то пустяках, перескакивая с одной темы на другую. И лишь уходя, ощерился на меня своей щербатой ухмылкой, которой скалятся бродячие псы, перед тем как тяпнуть тебя сзади за ногу, и сказал: «Молодец, префект! Они только силу понимают. Ничто другое на них не действует». Сверкнул воровским глазом и ушел… Наутро, ни о чем не подозревая, я уехал в Кесарию…
Пилат виновато и вопросительно покосился на Каиафу, но тот хранил горделивое молчание.
– И еще несколько дней в полной тишине прошло, – вздохнул Пилат. – Потом я понял, зачем эти дни понадобились: надо было собрать толпы людей из Иудеи, из Переи, из Галилеи. Быстро такое множество людей не завербуешь… Их столько на пятый день явилось, что заняли всю площадь перед моим дворцом. И только вошли на площадь, сразу же упали на колени. Молча. Ни единого звука никто не произнес. Похоже, их долго перед этим инструктировали… Я вышел к пришедшим. Но они продолжали молчать, не удостаивая меня словом… Так некоторые обращаются с нашкодившими детьми. Ребенок спрашивает: «Что я не так сделал?» А взрослый сверлит его взглядом и молчит: дескать, сам должен знать, сам сперва осознай, признайся, а я тебя потом высеку… Так я и ушел с площади. А они всю ночь стояли перед моим дворцом. Для священников разбили палатки. Галилеяне натаскали откуда-то хвороста и зажгли костры… На следующее утро я снова вышел на площадь и, обратившись к вашим старейшинам, просил их поведать мне, какая такая беда их постигла и привела ко мне, в Кесарию Стратонову. И тут только кто-то из твоих подчиненных, кажется Наум или этот седой старец, которого вы всегда таскаете за собой, когда надо произвести впечатление, – Исаак, что ли? – он мне объявил: «Перестань осквернять святыни! Бог тебя за это накажет!» И при этом ни слова о значках на знаменах, которые я разместил в крепости Антония!.. Я было подумал: «Не о моей ли персоне идет речь? Не я ли своим мерзким присутствием оскверняю Землю обетованную?»
Каиафа медленно и укоризненно покачал красивой головой, но голоса не подал.
– Я разозлился и уехал в Птолемаиду, – обиженно продолжал Пилат. – Пусть, думаю, толпятся, пока не надоест. Солдатам на всякий случай велел оцепить площадь, чтобы предотвратить возможные стычки с местными жителями. Вы ведь всю площадь изгадили… Два дня меня не было. А когда вернулся, началось представление. Один священник разодрал на себе одежды, бил себя в грудь и вытягивал вперед шею. Этот Исаак – или как его? – подошел к помосту, на котором я сидел, и, как на плаху, положил на него голову: руби, дескать, мне и всему народу, который жизни своей не пожалеет за великие святыни!.. Какое лицемерие, Иосиф. Как будто бы я, ваш правитель и защитник, осмелюсь поднять руку хотя бы на одного не виновного передо мною человека. А тем более – на целую площадь людей! Неужто с самого начала, еще в Иерусалиме, нельзя было спокойно объяснить, привести доводы, выдвинуть просьбы? Зачем было устраивать этот всенародный спектакль, затевать этот почти что бунт, не просить, а требовать, угрожать, ущемлять мое достоинство, унижать вверенную мне власть… И как мне потом сообщили, все это время в Храме, в Иерусалиме, шли молебны и приносились жертвы, как во время стихийных бедствий…
– Меня тогда не было, – строго заметил первосвященник. – Я был по делам в александрийской диаспоре.
– Да, как только ты прибыл в Кесарию, всё сразу стало на свои места, – поспешно прибавил Пилат и с виноватой благодарностью посмотрел на Каиафу. – Ты вошел ко мне во дворец. Мы долго беседовали. Ты мне всё объяснил спокойно и деликатно, как ты это умеешь делать, щадя мои чувства и мягко подсказывая единственно правильное решение… Никогда тебе этого не забуду, Иосиф. Да хранят тебя боги!.. Прости, да будет твой Бог к тебе милосерден и благосклонен!..
Каиафа осторожно склонил голову, а когда поднял ее, еще больше преисполнился величия.
– Стоит ли поминать старое? – изрек первосвященник, и бас его возвысился почти на октаву.
– Прости. Может быть, в моем рассказе я что-то сейчас драматизирую. Но ты пойми мое тогдашнее возмущение! Ведь для нас, римлян, священные изображения императора и орлы на знаменах – такие же святыни, как для вас Город и Храм!
– Ну, полно, полно, – почти ласково и как бы отечески произнес Каиафа.
Пилат же словно еще сильнее обиделся.
– А второй случай, случай с водопроводом! – воскликнул префект. – Тут я, ей-богу, ни в чем не виноват и, как вы говорите, полностью умываю руки! Прежде чем приняться за это дело, мы всё тщательно взвесили и обговорили: с тобой, с Ханной, с другими влиятельными членами синедриона. Мы обоюдно пришли к выводу, что водопровод крайне необходим Иерусалиму и в целях военных, и на случай возможной осады, и вследствие низкого качества воды, и для обеспечения праздничных богослужений. Ханна, ты помнишь, со всем согласился и даже заявил, что акведук должны сооружать непременно римляне, ибо из всех народов они в этом деле самые умелые и признанные мастера. Я сам, несмотря на свою занятность, подключился к проекту и руководил им с начала и до конца: от поиска источников и исследования качества воды до архитектурного решения и выбора стройматериала… Ты знаешь, что в нашем роду воде всегда уделяли первостепенное внимание. Я тебе об этом не раз рассказывал. Мой троюродный дед участвовал в строительстве знаменитого акведука, сооруженного под началом Марка Агриппы, ближайшего друга божественного Августа, того самого Агриппы, имя которого носит здание, в котором мы сейчас находимся. Я сам в последние годы увлекся водой, стал изучать ее природные качества, медицинские свойства и терапевтические воздействия.