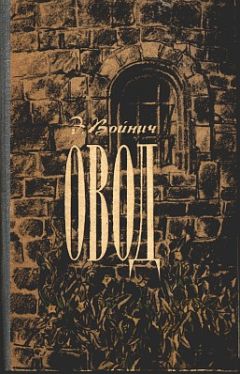Этель Войнич - Сними обувь твою
— Доктор Терри все понимает. Он знает, что для меня самое лучшее уехать подальше. В южных морях меня не будут преследовать никакие призраки.
— Только дикари, и пираты, и кораблекрушения, и акулы…
— Только. С этим я охотно мирюсь. И потом… Я никогда не говорил тебе… есть вещи, которые не так-то легко объяснить. Я мечтал об этом всю жизнь.
— О чем?
— О неведомом. О неведомых морях, неведомых землях, никому не ведомых племенах — диких, не тронутых цивилизацией.
— Да, правда… Я помню, когда мы были детьми…
— И до сих пор.
Так вот оно что, думала Беатриса, подавляя дрожь, значит все эти годы такой тесной дружбы она в сущности почти не знала его. Да и что можно знать о другом человеке? Быть может, у каждого есть свое тайное второе "я", которое он прячет от всех? О ее двойнике никто никогда не подозревал. Вот и у Уолтера есть это второе "я": не полузабытый злобный и смешливый демон, как у нее, а просто дикое лесное существо, запутавшееся, точно в силках, в нравах и обычаях глубоко чуждой ему цивилизации. Невольно она провела рукой по густым, серебрящимся сединою волосам брата, словно искала заостренные, поросшие шерстью уши фавна. Уолтер задержал ее руку.
— Послушай, Би, ты понимаешь, каково это — умирать медленной смертью и вдруг снова вернуться к жизни?
— Я знаю, что значит умереть мгновенно и снова очнуться.
— Я умирал медленно… От удушья. Он все еще не выпускал ее руки.
— Пойми, — продолжал он. — Я оставил всякую надежду. Дважды я упустил случай — один раз это было очень давно, — и никак не думал, что счастье улыбнется мне в третий раз .
— А когда был первый?
— Сразу после смерти папы. Один ботаник отправлялся в Гималаи и хотел взять меня с собой. Я чуть было не поехал.
— Я и об этом ничего не знала.
— Никто не знал, только мама. Она просила не говорить тебе.
— Почему?
— Лорд Монктон предложил рекомендовать меня на дипломатическую службу.
— И мама захотела, чтобы ты отказался от той поездки?
Уолтер опустил голову.
— Это был единственный способ ее успокоить. А, не будем вспоминать, все это позади! Помнишь, Би, как мы играли в каретном сарае в Кейтереме? Я всегда был Колумб, или Магеллан, или Васко де Гама. Не Кортес и не Пизарро мне не нужны были завоевания, я хотел неведомого ради неведомого.
— Чаще всего ты был Магеллан. А я — пират.
— Очаровательный был пират — в фартуке, с разлетающимися косичками, с палкой вместо тесака и прыгал неутомимо. А иногда ты была верным матросом, защищала меня от всех и вся и пищала: «Есть, сэр! Есть, сэр!»
— Так вот когда это началось?
— Еще раньше, ты этого и помнить не можешь. Мне было, наверно, лет пять или шесть, когда папа стал пересказывать мне Одиссею. Многие годы у нас с ним была своя особая жизнь, мы водили друг друга в плавание по морям, которых нет на карте. Но для меня все это было правдой.
— Еще бы! Никто не умел так играть с детьми, как папа.
— Для него это была не игра, это было забвение. Должно быть, и у него было что-то такое в крови. Не совсем то, что у меня, не просто тоска по неведомому. В нем было что-то неистовое, неугомонное, только он задавил в себе это, запрятал. Мне кажется, его это пугало. Может быть, не женись он на маме…
Значит, и отец… А она-то думала, что так хорошо его знает.
— Неистовый и неугомонный, — повторила она, — Я никогда не замечала в нем этого. Он всегда был сама кротость.
— Я видел его таким лишь однажды, какое-то мгновенье. Мы тогда читали «Вакханалии».
— А, понимаю. Мне он не позволял их читать. Я прочла их уже после его смерти, вместе с другими запретными книгами. — Беатриса улыбнулась. — Папа считал, что если женщинам когда-то и приходила охота убегать в горы и танцевать нагими в лунном свете, то молодой девушке не следует знать об этом. Он верил в чистоту женской души, верил до самой своей смерти. А ведь он двадцать четыре года прожил с мамой. Непостижимая штука — ум человеческий.
Она поднялась, подошла к окну, отдернула занавеску и посмотрела в сад.
По лужайке прыгал дрозд в поисках червей. Их, наверно, полным-полно: только что прошел дождь. Уолтер еще что-то говорил, но она больше не слушала. В ушах ее опять звучал озабоченный голос лондонского врача.
— Поскольку вы так настаиваете, миссис Смит, — разумеется, я понимаю, что это не настоящее ваше имя, — я вынужден сказать, что если и делаю для вас исключение, то весьма неохотно. В таких случаях пациент отнюдь не должен знать правду. Но, принимая во внимание семейные обстоятельства и ответственность, о которой вы мне говорили, а также если мне позволено будет сказать, принимая во внимание ваше мужество, я должен признать, что это случай не совсем обычный… Да, боюсь, сделать ничего нельзя… Сколько времени это продлится? Года два, я думаю, может быть чуть больше; но последний год будет… Должен вас огорчить, вам не долго еще удастся сохранять это в тайне. Вам и сейчас следует больше щадить себя. Неужели вы и в самом деле ни одному человеку не можете сказать правду?
Да, не могу. Кроме Уолтера, никогда, и никому ничего нельзя было рассказать. А он уезжает в южные моря.
И нечего стоять тут дура дурой. Он догадается, что с нею что-то неладно, а он не должен знать… не должен.
А почему бы не сказать ему? Если он уедет, его убьют — и все.
"Ну конечно. А если ему сказать, он останется. И незачем говорить такие страшные слова — рак… Довольно малейшего намека, и он останется.
И упустит такую счастливую возможность? Единственную. последнюю. Мама обокрала его в первый раз, Фанни во второй…
Ну конечно. Почему бы и нет? Это совсем в духе семейных традиций".
Вот дрозд наконец нашел червяка — отличного, толстого. И тащит его из земли дюйм за дюймом, то дернет, то рванет… Приятно, должно быть, червяку.
Уолтер замолк. Он неожиданно подошел, обнял ее.
— Хорошая моя, я знаю, ты будешь тосковать. Мне так жаль…
Тут он увидел лицо сестры и крепко сжал ее плечи.
— Не смотри так, Би! Родная, лучше я откажусь. Только бы…
Она топнула ногой.
— Опять самопожертвование! Не хватит ли? — Глаза ее сердито сверкнули.
— Не забудь, у меня есть еще и Артур. Ты только подай ему пример, и он тоже выпустит из рук свое счастье, лишь бы Глэдис не скучала без него. Думаешь, мы с ней скажем тебе спасибо? Хватит нам и одного святого в доме!
Уолтер испытующе смотрел на нее.
— Я ведь еще не написал о своем согласии.
— Так пойди и напиши, и покончим с этим.
— Нет, сперва поговорим начистоту, Би. Я хочу знать правду. Ты в самом деле хочешь…
Она рассмеялась, пожалуй чересчур громко.
— Если уж тебе угодно знать правду, пожалуйста: я хочу, чтобы ты хоть раз в жизни сделал что-нибудь просто для собственного удовольствия. Ты будешь счастлив, а важнее счастья ничего нет на свете.
Уолтер покачал головой.
— Не верю, что ты так думаешь, вся твоя жизнь доказывает обратное.
— Ас чего ты взял, что я довольна своей жизнью? — вскинулась Беатриса.
— Да, в свое время я бог весть что натворила, но…
Она тут же испугалась слишком откровенного признания и поспешила заговорить о другом:
— Гольбах прав. Церковь, религия, нравственные законы сделали человечество преступным и отвратительным, и все потому, что они сделали его несчастным. Душа человека расцветает от счастья, как трава зеленеет в солнечных лучах. Взгляни на Глэдис!
Она вдруг стала очень серьезна.
— Это очень мудро, Уолтер, это единственное, чему меня научила жизнь. Я не верю в бога, я и в дьявола больше не верю, но я верю, что каждый человек имеет право быть счастливым. Смотри же, чтобы никто не отнял у тебя твоего счастья.
Она опять засмеялась, притянула к себе его голову и поцеловала в макушку.
— О вкусах не спорят! Если тебе очень хочется, чтобы тебя подали под соусом какому-нибудь людоедскому вождю, поезжай, пожалуйста, превращайся в жаркое и будь счастлив. Но до тех пор, во всяком случае, оставайся у нас. За это время ты наберешься сил, у Глэдис еще целый год будет хороший учитель, и всем нам будет приятно, что ты с нами. А когда ты вернешься… если вернешься…
Он снова крепко обнял ее.
— Ну конечно я вернусь. И знаешь, что мы тогда сделаем? Слушай, Колибри.
Так прозвал ее отец, когда она была совсем маленькая. В ту пору он еще видел, и легкие, грациозные движения девочки напоминали ему эту крохотную птичку.
— Да?
— Дай сроку три года, ну, скажем, четыре для верности. Глэдис будет уже восемнадцать. И уж можешь не сомневаться, из нее выйдет весьма энергичный самодержец. Мы передадим ей бразды правления и сбежим только вдвоем, ты да я. Устроим себе каникулы на целых полгода, а куда сбежим, угадай. Объездим все греческие острова. Повидаем все места, которые так любил папа. Разве тебе не хочется поглядеть на Лемнос и на пещеры Сирен?
И на воды Стикса… Она прижалась щекою к его волосам. Что ж, Глэдис, наверно, понравится Эгейское море. Они будут там утешать друг друга.