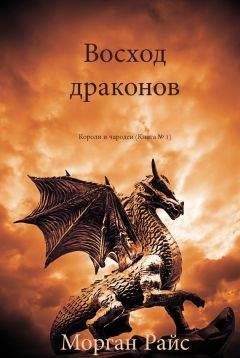Юрий Тынянов - Пушкин
– А что же именно потеряно? – спросил с неприязнью старый Архаров.
Услышав о драгоценной библиотеке, он сказал задумчиво:
– Библиотека что? Можно в лавке новую прикупить. У меня паркеты погибли.
С этих пор Василий Львович говорил о своих потерях только нижегородским дамам. Они приняли в нем участие. Самый говор их казался Василью Львовичу необыкновенно забавен, любезен: они растягивали все слова на о. Вскоре он стал волочиться за прекрасной Елизой Саламановой. Нижегородские прелестницы были более угловаты и неловки, чем московские, но это восхищало Василья Львовича своею новостью.
Жил он в избе, осень была холодная, а он ходил без шубы. Но день постепенно стал заполняться, возобновились старые, давно оставленные связи: появился в Нижнем Новгороде кузен – другой Пушкин, Алексей Михайлович. Кузен стал еще неопрятнее и злее, обращался с Васильем Львовичем небрежно, слишком звучно и долго целовал его и проч. Осведомлялся при всех о здоровье домашних, особенно напирая на это слово и разумея, по-видимому, Аннушку. Василий Львович называл его теперь везде однофамилец и решительно отказывался от родства. Однофамилец с утра до вечера играл в карты, непрерывно куря табак, кашлял и кричал. Однажды он окликнул из окна какого-то дома, где вторые сутки играл, Василья Львовича, который шел к прелестной Елизе.
– Mon cousin! Ты трубку мою нашел?
Василий Львович остолбенел от наглости. Он пожал плечами и прошел, не говоря ни слова, мимо. Его трубка была, точно, подарена ему Алексеем Михайловичем много лет назад, но именно подарена, в именины. Кстати, она погибла со всем движимым достоянием. Вскоре рознь кузенов заняла нижегородское общество: Карамзин улыбался, завидев их вдвоем, как в былые годы. Он говорил с каким-то удовольствием, вздыхая:
– Все меняется на земле, одни Пушкины остаются неизменны.
Между тем общество привыкло к своему положению и даже стало находить приятности в бродячем существовании; начались развлечения: балы, маскарады. Василий Львович, которого всецело заняла Елиза Саламанова, решил выступить в качестве поэта. Он сочинил патриотическое и очень милое обращение к жителям Нижнего Новгорода, где оплакивался московский пожар. Здесь не было надутых восклицаний и уподоблений военачальников древним римским героям, а чистота, опрятность слога и некоторая жалобность; после каждого куплета прибавлялось:
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Стихи ему удались. Славный любитель музыки, московский профессор Фишер, который тоже бежал со всеми из Москвы, положил их на музыку. Куплет исполнял один голос, а припев – хор. На балу у губернатора Крюкова романс Василья Львовича имел успех оглушительный. Слава певца поразила доселе холодную Елизу. О вечере было написано в Петербург, и Василий Львович был упоен. На улице нижегородские дамы толкали друг друга чуть заметно под локоток, показывая глазами на проходящего в легкой одежде поэта. Василий Львович косил и хладнокровно проходил мимо.
Вскоре он стал предметом низкой зависти однофамильца. Алексей Михайлович озлел и стал говорить, что куплеты Василья Львовича с припевом напоминают ему колодника, который под окном просит милостыню и оборачивается с ругательством к уличным мальчишкам, которые дразнят его. Ругательствами однофамилец назвал сильные, но приличные куплеты против врагов, имевшиеся в стихотворении. Василий Львович пренебрег – в который раз – клеветою и притворился, что ничего не слышал. Между тем даже Николай Михайлович Карамзин, говорили, улыбнулся отзыву развратника. Василий Львович сказал об этом Аннушке:
– И в избе не спасешься от клеветы.
Аннушка сразу же начала хлопотать о шубе для Василья Львовича. Вскоре она где-то раздобыла купеческую поддевку, но он решительно, с негодованием отказался от нее. Аннушка с нижегородским портным долго ее перешивали. Василий Львович напялил шубу, посмотрел на себя в зеркало и вспомнил Велизария, как он его видел на парижской сцене. Ему удалось задрапироваться так, что шуба окончательно утратила свой подлый вид. Он махнул рукою. Начинались морозы. Денег не было ни гроша. Особенно его раздражало, что однофамилец не только был везде принят, но и выиграл за это время тысяч до восьми.
Впрочем, горевать ему стало вскоре некогда. На одном вечере он ввязался в литературный спор. Зашел разговор о французской литературе. Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, человек почтенный, но со странностями, говорил против нее. Василий Львович дал себе еще в Москве зарок не говорить слишком горячо и остро, боясь, что Ростопчин его уничтожит как мартиниста. Но здесь было далеко от Москвы и Ростопчина, и Василий Львович, дрогнув, ввязался в спор. Для него не было секретом, что Муравьев был сопричтен лику «Беседы» и был у Шишкова директор разряда – вещь немаловажная. Но Нижний Новгород, эта любезная республика беглецов, смешала чины и возвратила свободу мнений. Василий Львович сказал, что Никону всегда предпочтет Вольтера как стилиста и что без логики изящным быть невозможно. Грессе есть поэт, а Шихматов – нет.
Спор завязался. Все общество было поражено и заинтересовано модным спором и горячностью Василья Львовича. Он, видя себя снова предметом общего любопытства, зажмурился, как человек, бросающийся в пропасть, и прошел на память две странички Грессе, а потом пояснил довольно твердо, что одно – дела военные, а другое – вкус поэтический. Придя домой, он разбудил Аннушку и приказал ей быть готовой ко всему. Аннушка, взглянув на его мрачный вид, заплакала тихонько. Василий Львович дрожал – не то от легкости своей шубы, которую он называл плащом Велизария, не то от страха. Аннушка согрела его, и он уснул.
Назавтра он получил с утра, сидя в своей избе, три приглашения: на вечер, маскарад и спектакль у Бибикова. Василий Львович приободрился, и страха как не бывало. С этого дня он был в великой моде, всюду теперь был зван, а обеды, ужины, балы, маскарады шли непрерывно, так что горевать вскоре не стало времени. Он едва успевал прочесть реляции.
Он нашел любезные черты в самой волжской кухне. Налимья печень и стерляжья уха, о которых однажды говорил ему Иван Иванович Дмитриев, окончательно вытеснили в его сердце парижскую мателоту. Он вполне успокоился и снова приобрел приятную уверенность в себе и сознание своего значения. Да, он пресмыкался ныне в стране, где Волга, соединясь с Окой, обогащает всю Русь мукой и рыбой. Так было угодно судьбе! Что делать! И он давал некогда ужины – и какие! И он воспевал граций, которые были известны Петрополю. И он щеголял дорогою каретой, лихой четверкой. И он, как все прочие, имел диваны и паркеты – и не хвастает ими, так же как кенкетами [78] и своею бронзою. Как он умел транжирить, боже! А здесь – дело иное. Здесь он пресмыкается, как беглец. Но все не так, как другие. Он презирает бубновый туз, который приносит некоторым по восьми тысяч – в особенности если игра не чиста. Изба, рублевая кровать, два стула, перо и бумага – вот его достояние. Добрая служанка, из тех, коих особенно любил Пирон, блюдет его покой. Он поэт и марает бумагу. Однофамильцы пользуются его славой и набиваются в родню. Знаменитые писатели смеются, слушая этих шутов. Что делать! Он молчит. Терпение и чистый вкус, бедность и спокойная совесть – таково его достояние, достояние поэта. А этого достояния неприятель не может его лишить, как лишил дрожек, новой кареты, мебелей и драгоценной библиотеки.
Так, или почти так, говорил он прелестной Елизе и нескольким другим прекрасным, умалчивая, однако, о служанке Пирона. Елиза грозила ему пальчиком, как, видела она, делали московские прелестницы. Он снова был бриган, поэт, вертопрах, хоть и стареющий, но готовый к боям – литературным.
20
Иначе обстояло с Сергеем Львовичем.
Сергей Львович, который был принужден спасать прежде всего женины платья, приоделся во все самое лучшее, взял в руки батистовый платок, прихватил по дороге шифоньерку, потом накинул на мужика, которого удалось принанять, свою шубу – и так бежал в мужичьих дрогах с Надеждою Осиповною из Москвы. Он с озлобленьем затолкал в самый угол узел с жениными платьями, а затем, под предлогом, что его трясет, уселся на узел. Надежда Осиповна сама этого не сделала, потому что боялась измять платья. Она заметно присмирела. С собой она взяла свой портрет, рисованный известной Виже-Лебренью в тот год, когда гвардеец Боде сказал ей, что две самые прекрасные женщины sont les deux belles créoles [79] – она и Жозефина, супруга Бонапарта. Теперь Бонапарт жег Москву, а она тряслась в мужицкой телеге. Левушка и Олинька подпрыгивали на передке, а Арина сидела, свеся ноги, сбоку. Никита был оставлен в Москве для спасения вещей.
Только что отъехали от Москвы – произошло неожиданное неповиновение Арины, которое Сергей Львович иначе не мог назвать, как бунтом. Арина уже ранее, как только почуяла, что собираются уезжать неведомо куда, хмурилась, морщилась и тайком по вечерам прикладывалась к пузырьку, о чем Надежда Осиповна хорошо знала, но не подавала виду; она иногда робела ее. Накануне перед выездом Арина поссорилась с Никитою.