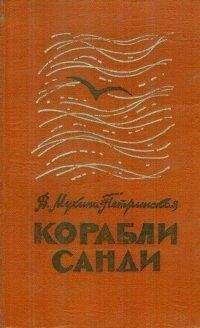Петр Константинов - Синий аметист
— В три-четыре раза… Ну и что! — рассердился старик. — А ты думаешь, у нас не могут получать столько?…
— Могут! И не столько, а намного больше. Но для этого нужно, чтобы у крестьянина был свой клочок земли, а не только хозяйская нива, на которой он ишачит с утра до вечера…
— Опять двадцать пять, — отмахнулся от этих слов хаджи Стойо. — Ты все о своем… Треплете языками и ты, и твой приятель, как его, Махан, что ли?…
— Макгахан, — поправил его Павел.
— Вот-вот, тот, что писал о фермерах в «Веке». А что писал? Так, одни глупости… Мол, платите больше батракам, так и пшеницы будет больше, и прибыли… Ну, есть ум у этого человека?
И, немного помолчав, спросил, не оборачиваясь:
— Он что, тоже фермерин?
— Нет, журналист.
— Журналист?… Оно и видно. Кто знает, что у него на уме… С этой ямщицкой бородой… Нет, не внушает он мне доверия. Как хочешь… Бесстыдники… Сраму у них нет… Только головы людям морочат…
Павел ничего не ответил. Он задумчиво глядел на темнеющие поля. В сумерках его лицо казалось еще более худым и усталым, но глаза, спрятанные за стеклами очков, сияли, излучая теплый, чарующий свет.
Дороги, идущие вдоль реки Марицы, были обсажены высокими тополями. Озимые уже давно взошли, и среди зеленого волнующегося моря островками чернела распаханная земля, приготовленная для других культур.
Воздух был напоен весенней влагой, и Павел дышал полной грудью, чувствуя, как вливаются в него живительные струи.
— Я знаю одно, — вновь заговорил хаджи Стойо, — свистит плетка — работа идет, а от этого и урожай хорош, и барыши есть. Все остальное — трепотня…
— Только плеткой не получится, — покачал головой Павел.
— Еще как получится, — повысил голос хаджи Стойо. — А ты помалкивай, а то больно язык распустил…
Колеса тележки застучали по мощеному двору имения, и это заставило хаджи умолкнуть. Он мрачно уставился перед собой. Сьш, зная необузданный нрав отца, предпочел благоразумно не продолжать разговор.
Войдя в дом, Павел сразу же поднялся на второй этаж. В полутемном коридоре на миг остановился, почувствовав знакомый аромат старой мебели и осенних плодов. Все вокруг тонуло в скорбном сумраке Этот аромат — тонкий, неуловимый — всегда пробуждал в нем томительные, хотя и смутные воспоминания.
Окно его комнаты глядело на зеленую ниву. Закат еще не погас. Молодой человек прислонился к раме и задумался. Здесь прошло его детство — исполненное сокровенных, но неосуществимых мечтаний, гневных окриков отца, грохота телег и упоительного аромата свежего сена и чернозема.
Павел распахнул окно. Где-то внизу слышался голос хаджи Стойо, распекавшего кого-то, стук переставляемых шкафов, звон посуды. В дверь тихонько постучали. С зажженной свечой в руках вошла Каля — старая экономка хаджи Стойо.
— Каля, — обратился к ней юноша, — скажи отцу, что я не голоден, ужинать не буду.
Старуха молча поклонилась и также тихо вышла — словно растаяла в воздухе. А Павел вновь вернулся к своим мыслям.
Боявшийся сурового нрава отца, в детстве Павел чувствовал себя одиноким. До учебы в Константинополе у него совсем не было друзей. Со старшим братом Стефаном он не ладил, тот был для него далеким и чужим. После окончания лицея в Константинополе Стефан поступил на службу к туркам. У него был жестокий и мстительный характер, что пугало Павла еще в детстве. Старый дом на Небеттепе был ненавистен юноше, и он предпочитал жить в имении под Кукленом. Сначала жизнь там казалась Павлу чужой, он не мог понять ее. И лишь позднее осознал, что сила и привлекательность этой жизни определялись безмолвным и величественным могуществом земли.
Под вечер он отправлялся бродить по полям и вскоре полюбил эти одинокие прогулки. Остановившись где-то посреди вспаханной нивы, чутко прислушивался к дыханию земли, жадно вбирая в себя пьянящий запах тянущихся к свету ростков.
Такая привязанность к земле потомка ростовщического рода была абсолютно необъяснима, но тем не менее в часы одиночества в Константинопольском колледже тоска по земле становилась нестерпимой.
С жизнью в имении Павла связывало и другое. К западу от Куклена, близ Дермендере, находилось заброшенное имение Джумалиевых — Гераны. Мальчиком Павел любил бывать там. Он лазил по большим, развесистым деревьям, растущим во дворе, часами играл с дочерью Джумалиевых Жейной. После отъезда семьи Христо Джумалиева в Одессу эта детская дружба постепенно забылась. И лишь воспоминания об огромных вязах и ласковый взгляд маленькой девочки продолжали жить в его сознании, представляя долгое одинокое детство в особом свете.
Жизнь в колледже сразу поглотила его. Все было необычным для любознательного юноши — новые идеи, новые книги, новые мысли. Он входил в доселе незнакомый мир с каким-то смешанным чувством грусти и облегчения.
В Константинополе, в доме доктора Стамболского, Павел впервые познакомился с «Отечественными записками», статьями Белинского в «Современнике». Из всего написанного выходило, что земля, то неопределенное ощущение детства, по сути, своеобразная межа, разделяющая людей. Золото, богатство, сан приобретались намного позднее. Начало же для каждого человека заключалось в чем-то необыкновенно простом — в хлебе насущном.
Как раз в то время в руки Павлу попалась книга Франсуа Кене, которая познакомила его с учением физиократов. Оно показалось ему философским откровением бытия, и юноша, не раздумывая, посвятил все свое свободное время овладению основ этого учения, возможно, тем самым смягчая грусть по далекой равнине.
Каждая новая страница книги раскрывала перед ним новую истину. Но именно это делало истину вообще еще более далекой, необъяснимой и непонятной. Его мир не был ни самым совершенным, ни самым справедливым, а представлял собой хаос мыслей. И в этом хаосе было одинаково трудно понять истину и обнаружить обман. Что предопределяло и то, и другое? Не были ли эти понятия порождением человеческого сознания? Если это так, то какое значение имело тогда все остальное — религия, идеи?
Подобные мысли не давали Павлу покоя, заставляли его метаться между верой и разочарованием, искать какую-то опору. И невозможность найти такую опору делала юношу еще более слабым и неуверенным в своих силах.
В прошлом году, после его возвращения из Константинополя, однажды хаджи Стойо предложил ему пойти в гости к Аргиряди. Когда Павел, одевшись, спустился вниз, к ожидающему его фаэтону, хаджи Стойо осмотрел сына долгим, изучающим взглядом, что показалось Павлу несколько странным.
У Аргиряди Павла представили дочери хозяина Софии. Они сразу нашли общий язык и провели вечер в разговорах о пансионе в Загребе, где училась девушка, о книгах, которые оба читали. Строгая, изящная красота Софии, ее ум, такт и сдержанность в суждениях произвели на Павла большое впечатление.
Потом он не раз бывал у Аргиряди. Их дружеские беседы были все так же оживленны, но постепенно его стал раздражать холодный деспотизм, который София любила проявлять в самые неожиданные моменты. Павел все больше убеждался, что дочь Атанаса Аргиряди принадлежит к знакомой ему по романам Бальзака плеяде красивых, капризных и властных женщин, которые были ему неприятны.
Там же, в доме Аргиряди, он встретил Жейну. Вначале он даже не узнал ее — так она выросла за те годы, что они не виделись, расцвела скромной, неяркой красотой. Чистый, ясный свет, который излучали ее глаза, далекое воспоминание детства, продолжавшее жить в его душе, незаметно стали для Павла той самой опорой, которую он искал все эти годы, но нашел только теперь.
В тот день они почти не разговаривали. Как будто Павел боялся возвращения того, что сохранилось от детских дней, проведенных в Геранах.
Вернувшись в свое имение, он всю ночь не сомкнул глаз. Таинственная тишина, вливавшаяся в окно, показалась ему исполненной необыкновенно сильного напряжения, волновавшего душу.
С тех пор он полюбил долгие часы у окна и порой оставался там, покуда небо не начинало светлеть, будто вновь хотел ощутить первые прекрасные трепеты своей души. Но это желание рождало в душе тревогу, сомнения и вместе с тем надежды на то, что он, наконец, обрел столь желанный гармоничный мир. Этими часами тишины и раздумий искупался весь мучительный день, проведенный рядом с отцом…
Далеко, в Кукленском монастыре, ударили полночь. Павел очнулся от дум, зябко повел плечами. Во дворе сторож с фонарем в руке запирал ворота имения. С конюшни донеслось фырканье лошадей и беспокойный топот копыт по деревянному настилу. Дом погружался в сон. Ночной ветер, спустившись с Родоп, тронул верхушки тополей в глубине двора, и они глухо зашумели.
7
Имение Хюсерлий располагалось на берегу Марицы, утопая в белой кипени рано расцветших деревьев.