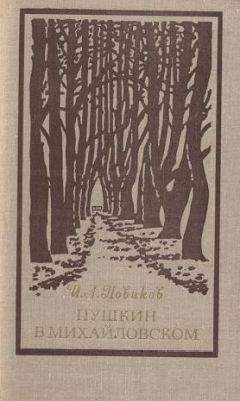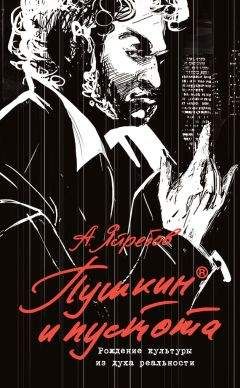Вера Гривина - Русский сын короля Кальмана
От проживающих в Венгрии французов шут кое-что узнал о происходивших там недавно событиях, к тому же он сразу углядел внешнее сходство между рыцарем Конрадом и королем Гёзой. Лупо, хоть и было очень болтливым, никогда не говорил больше, чем находил нужным сказать, поэтому его догадки остались при нем, выразившись в отношении к рыцарю Конраду, как к особе самого благородного происхождения. Даже более того – только с рыцарем Конрадом, Лупо не допускал шутовской фамильярности.
Однажды они гуляли вдвоем, разговаривая о том и о сем. Борис заметил, что, по его мнению, французский король слишком добр для военачальника.
– Людовик не такой добрый, каким кажется, – возразил Лупо. – Будучи в гневе, он подобен сатане. Никто иной, как наш благочестивый король велел сжечь собор в городе Витри со всеми прихожанами.
– Не может быть! – удивился Борис.
– Клянусь своим спасением! Это случилось во время войны Людовика с графом Шампаньским. Потом, правда, наш добрый король впал в раскаянье…
– Наш король впал в раскаянье? – спросил вдруг кто-то заплетающимся языком.
Обернувшись, Борис и Лупо увидели де Шатильона. Глаза красавчика блестели, щеки пылали, а тело покачивалось.
Борис кивком поприветствовал молодого человека. После их первой встречи де Шатильон некоторое время делал вид, что не замечает чужака, но потом вдруг попытался сойтись с рыцарем Конрадом поближе и однажды попросил у него денег, но получил отказ. Впрочем, к подобным отказам младшему сыну графа Жьенского было не привыкать: он уже задолжал половине воинства в счет своей будущей добычи. Рено успел потратить все, что имел и взял в долг, но каким-то образом умудрялся продолжать вести разгульный образ жизни.
– И в чем же раскаивался наш благочестивый король? – осведомился де Шатильон.
– В том, что он почти перестал блюсти пост, – нашелся Лупо.
– А-а-а! – протянул Рено и направился дальше.
Шагая, он качался, спотыкался и бранился на весь лагерь. Шут проворчал ему вслед:
– Де Шатильон, как напьется, не может усидеть на месте, как будто его черти пинками в зад гонят.
Борис тем временем обратил внимание на юношу в простой полотняной одежде и в башмаках из подвязанных ремешками кусков кожи. Это был один из музыкантов королевы: он играл на инструменте, который назывался у русских дудой или свирелью, а у греков и франков – флейтой.
Борис хотел окликнуть флейтиста, но тот вдруг бросился со всех ног прочь.
– Ты что-нибудь о нем знаешь? – спросил Борис у Лупо, указывая на убегающего юношу.
– Очень мало – в основном то, что известно всем. Он прежде развлекал игрой на флейте венгерского короля. Алиенора восхитилась его искусством, и ей подарили музыканта, как какую-то безделушку.
– Значит, он служил Гёзе, – озабоченно пробормотал Борис.
– Да, служил, – подтвердил шут и, немного помолчав, добавил: – Я могу ошибаться, но, кажется, этот парень не венгр.
– А кто он, по-твоему?
Лупо пожал плечами.
– Не знаю. Подарок короля Гёзы не говорит ни по-французски, ни на латыни, ни по-гречески, и не понимает – или делает вид, что не понимает – ни одного из этих языков.
Борис вспомнил, что у флейтиста русые волосы, небесно-голубые глаза и мягкий овал лица. Да, действительно, вряд ли этот юноша – венгр, а вот русским он вполне может быть.
Пока Борис размышлял об убежавшем музыканте, откуда-то появились еще трое артистов из свиты королевы и направились к морю.
– Скоморошья ватага, а не Христово воинство, – проворчал Борис по-русски.
Лупо не понял ни слова, но догадался о смысле сказанного. Усмехнувшись, он пропел:
Берегитесь сарацины:
Наша рать непобедима,
Ни к чему владеть копьем,
Мы вас флейтами побьем.
Воины у нас танцоры,
Трубадуры и жонглеры,
Вместо знамени – колпак,
А за главного – дурак.
– Что верно, то верно, – согласился с ним Борис.
Шут опять хмыкнул:
– Королева хотела взять с собой всех своих трубадуров, музыкантов и жонглеров, полагая очевидно, что сарацины при виде комедиантов умрут от смеху, не успев взяться за оружие. Король воспротивился желанию жены, но она все-таки сумела отстоять своих самых любимых забавников, коих оказалось не так уж и мало. В придачу к ним есть еще и рыцари, желающие привлечь к себе внимание королевы сочинением куртуазных песенок…
Он прервался на полуслове, потому из-за ближайшего шатра вышла юная Агнесса де Тюренн. Заметив рыцаря, она покраснела и присела в глубоком реверансе – в таком, каким обычно приветствуют особ королевской крови. А Борис почувствовал, как у него дрогнуло сердце. Он с первого дня своего пребывания среди крестоносцев испытывал в присутствии Агнессы волнение, и ничего с этим не мог поделать, как не досадовал на себя. Борис ни с кем не говорил об этой девушке, но всегда прислушивался, если при нем заходила о ней речь. Де Винь, как-то сравнил свою даму сердца со сказочной феей, и это сравнение было удивительно точным, ибо тоненькая, почти прозрачная девушка действительно казалась существом, явившимся из иного, нереального, мира.
– Сможет ли она перенести тяготы похода? – беспокоился о ней де Винь.
А вот Лупо, который, кстати, очень хорошо относился к Агнессе, считал, что ее внешность обманчива и юная де Тюренн, благодаря своему крепкому здоровью и имеющейся у нее несокрушимой силе духа многое сумеет преодолеть.
Под пристальным взглядом Бориса девушка еще пуще покраснела и почти бегом бросилась прочь.
– Малютка де Тюренн очень смущена, – пробормотал Лупо.
– Кажется, она сирота? – спросил Борис как бы невзначай, стараясь не демонстрировать своего интереса к девушке.
– Да, сирота, – подтвердил Лупо. – Ее матушка, благочестивая Арсинда де Тюренн, скончалась давно, а отца Агнессы, знатного тулузского сеньора Гильома де Тюренна, не стало чуть более года назад. Упокой их обоих Господи! Бедная девочка теперь, увы, под опекой своего дяди, аквитанского сеньора де Блая.
– Почему, увы? – удивился Борис.
– Де Блай – этакий беззаботный мотылек, порхавший с празднества на турнир, с турнира на празднество, пока не приземлился на королевский двор, где принялся сочинять стихи – плохие на мой грубый вкус и прекрасные на утонченный вкус Алиеноры. Когда этот легкомысленный трубадур стал опекуном своей тулузской племянницы, он ничего лучшего не придумал, как взять ее с собой в Париж и пристроить к королеве – якобы для того, чтобы найти Агнессе достойного жениха. Я, в отличие от де Блая, считаю двор Алиеноры не самым подходящим местом для неискушенной девицы. Уже хорошо, что Агнессы не коснулся царящий там разврат, однако общение с королевой все-таки внесло некоторую куртуазность23 в восприятие ею действительности. Не стоило малютке де Тюренн покидать родную Тулузу.
– Но могла же она жить одна.
– Почему одна? Сюзерен де Тюреннов, граф Тулузский – крестный отец Агнессы и позаботился бы о ней.
Борис наморщил лоб.
– Граф Тулузский? Его, кажется, нет с нами? Он старик?
– Граф Альфонс Тулузский уже не молод, но еще полон сил, – ответил Лупо. – Он принял крест, но, сославшись на какие-то свои проблемы, пообещал королю прибыть на Святую землю морем. Весьма благоразумное решение.
– А дядя девицы здесь?
– Здесь. Он крутится постоянно возле королевы.
– Возле королевы крутиться постоянно целая толпа в штанах, – проворчал Борис.
Шут широко ухмыльнулся:
– Толпой они в штанах, а поодиночке без штанов.
– Неужели король не догадывается о шашнях королевы?
– Наверняка догадывается, но сам себя переубеждает. Беда Людовика в том, что он по уши влюблен в жену, хотя женился на ней по расчету.
Борис и Лупо вышли на открытую площадку, где небольшая толпа рыцарей собралась вокруг епископа Лангрского. Святой отец громко призывал крестоносцев на борьбу с греками, называя последних еретиками-схизматиками24. Борис поморщился. Он родился в Киеве, и, следовательно, был крещен по православному обряду. Хотя прошло почти сто лет с тех пор, когда западная и восточная христианские церкви отделились друг от друга, между ними еще не существовало огромной пропасти. Переход из католичества в православие и обратно не считался изменой вере, а споры о том, какое христианство правильное, вели в основном священнослужители. Вот и Бориса нисколько не смущало, что большинство жителей Венгерского королевства – приверженцы римской церкви, он сам часто причащался у латинских священников, при этом ему крайне были неприятны нападки на веру, в которой его растили с младенчества.
– Расшумелся святой отец! – заворчал шут. – А вот я уважаю греков уже за то, что для них невежество не является достоинством. Да, они нас ненавидят. Но никто в здравой памяти не будет любить забравшегося в его жилище разбойника.


![Елена Белая - Дорога к себе [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)