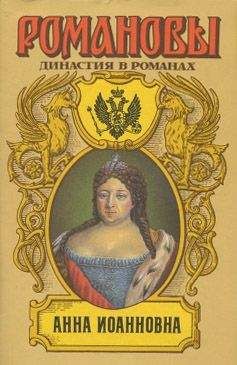Алексей Десняк - Десну перешли батальоны
Раскололись Боровичи на разные лагери. Одни с болью в душе пошли на поля Писарчука и Соболевского, другие, знавшие какое-нибудь ремесло, искали работу в соседних селах, а некоторые остались дома, надеясь на лучшие времена. Но все затаили в душе ненависть и злобу на хозяев, затаили до поры до времени.
* * *
Еще и светать не начинало, а жнецы Федора Трофимовича уже идут в поле. По одному, по двое, по трое идут, перебросив серп через плечо. Идут молча, горькую думу думают. Тут и Свирид Сорока с женой, вечный пастух чужого стада, и Харитина Межова — мать Марьянки, сгорбленная, маленькая, изнуренная работой. И Мирон Горовой с невесткой вышли на заработки. Пришлось и фронтовику Якову Кутному пойти с женой на чужое поле. Его изрытое оспинами лицо, обычно веселое, сегодня было мрачным. Яков никогда не падал духом, но больно было сегодня ему, исстрадавшемуся в окопах, идти работать за девятый сноп.
Писарчук тоже не сидел дома: надо присмотреть за жнецами. А то смотри, чего доброго какая-нибудь баба намнет себе колосков в подол… Сам Писарчук приезжал на лошадях, а сыновья — Никифор и Иван — на волах. Писарчуки жали, вязали и сразу домой свозили, — боялись, чтобы ночью кто-нибудь не украл копен.
Мало в Боровичах хорошей земли. То болота — «Большое», «Дедовское», «Крачковое», то пески сыпучие, то заросшие вереском выгоны. Где поле похуже — это бедняцкое, где получше — это Соболевского, Писарчука, Орищенко. Самая лучшая земля — в урочище Степках между железной дорогой и речкой. Хорошая там земля — жирная и плодородная. Прежде она вся принадлежала Соболевскому, но после тысяча девятьсот пятого, когда он стал понемногу распродавать землю, так и этой половину продал Писарчуку. Вот сюда, в урочище, и набирал жнецов Федор Трофимович. Десятин с тридцать здесь было под пшеницей и рожью. Не любит пшеница песка, ей плодородную почву давай, а земля такая только у помещика и кулаков. Пшеница в этом году у Писарчука прекрасная, как стена стоит. И стебель крепкий, и колос крупный. А подует ветер — побегут по ней волны, как по морю. И рожь — рядом, в рост человека. Колос тяжелый до земли кланяется. Не то, что на полосках у бедняков возле леса — колос в небо смотрит. Не у одного боровичанина, проходившего мимо полей Федора Трофимовича, сердце обливалось кровью. Будет у Писарчука хлеб и к хлебу, закрома трещать будут. Богач!.. А все чужим горбом сделано, руками батраков и бедняков!
Но хоть как ни богаты были кулаки в Боровичах, а машин не знали. Пахали простым плугом, бороновали деревянной бороной, а убирали серпом и косой. Где лучше уродило — там серпом жали, где плохо — там брали косу… Вывел Федор Трофимович своих жнецов, расставил их, сказал: «С богом!», и замелькали серпы в натруженных руках. Постоял хозяин, посмотрел, как работают, наказал не мять хлеба и колоски старательно подбирать. Сыновей рядом поставил, чтобы наблюдали. Никифор — тот, как медведь, работает. Писарчук специально вызвал его от воинского начальника из Сосницы. Иван — в тени под копною. Глаз у него зоркий, это отец знает. Склоняются спины жнецов до самой земли. Умело ловит рука стебли, собирает в пучок, и весь день одна мысль — побольше, побольше бы заработать. Болит спина, ноют руки, исколотые жнивьем, щемит сердце от несправедливости, от обиды. На ряды полукопен у Писарчука посмотрит жнец и зубы от боли стиснет.
Молча жнецы возвращаются домой. Идут гурьбой, идут по одному, несут свое горе в убогие жилища. Одну только песню слышат жнецы. Берет эта песня за сердце, тоскливо от нее на душе.
Поет фронтовик Яков Кутный, возвращаясь с чужого поля.
Ой, боже, мій боже,
Що ви наробили:
На самого Спаса
Війну об’явили…
Ой, під Перемишлем
Висока могила,
Ой, там пропадає
Вся наша родина…
Привез эту песню Яков с фронта. Пел ее тайком в окопах. Вспомнил о ней в Боровичах и теперь, идя через конопляники, печально выводит:
Якби мати знала,
Яка мені біда,
То й передала би
Горобчнком хліба,
Синичкою солі.
Якби мати знала,
В якій я неволі…
Катилась песня по полю, через Гнилицу, эхом отдавалась на лугах. Пел Яков с большим чувством, голос его шел из глубины души. К последним словам его песни прислушивалась не одна молодица и не у одной из них от горя сжималось сердце.
Якби мати знала,
Яке мені горе,
То й переплила би
Через Чорне море…
Замолкал Яков, и еще грустнее становилось в поле. Тихо-тихо в селе. Притаилось оно и молчит, мрачное, как небо в грозовых тучах перед бурей.
* * *
Послушался Григорий Дмитра и не пошел к Писарчуку наниматься в жнецы. Запретил и Наталке. Запрягли они кобылку, выехали в поле, убрали хлеб на своей полоске — поставили две копны и полукопну. Перевез Григорий снопы на гумно, взял косу и отправился за Лошь — там был у него клочок сенокоса. Переехал Григорий реку на лодке, посмотрел на помещичий луг, а там косарей-косарей. Любил Григорий косить вместе со всеми — померяться силами. А кто у них атаманом? Наверно, Ананий Тяжкий. Любит Григорий быть атаманом. Подошел к косарям, засмотрелся. Ананий остановился, взял горсть травы и отер косу. Провел бруском. Дзинь-дзинь!.. Дзинь-дзинь!.. Покатилось эхо над Лошью, перезвонами откликнулось ближнее пастбище. Тоскливо стало Григорию. Кому косят?.. Косари пошли заходить новый ряд. Ананий шел впереди, большой, сутулый, потный, бородатый, и грудь покрыта черным мхом.
— Чего стоишь, Григорий? Приставай к нам, — подошел Ананий.
— Хорошо бы с вами косить, да не пойду я к пану.
— Что ж поделаешь, Григорий! Давно сказано: сила солому ломит. Ведь жевать-то что-нибудь надо?
— Правду сказали, Ананий Петрович. Сила солому ломит, но сила у нас, а не у пана. У нас, видишь, какие сильные руки!
В глазах Анания блеснули огоньки. Ясно было, что о том же и он думал-передумывал, когда шел атаманом на панском сенокосе.
— Я здесь, а баба рожь жнет ему же, пану. Авось что-нибудь заработаем… — сказал он, подумал и совсем тихо добавил: — Мало в Боровичах землицы, а если бы панскую поделить, то хватило бы на всех. Так дальше жить нельзя. Правильно я думаю, Григорий? — глянув в глаза Бояра, осторожно высказал Ананий свою затаенную мысль. Григорий не успел ответить — подошло еще несколько косарей, поздоровались, приглашали в свою компанию.
— Мы, Ананий Петрович, поговорим в другой раз. Приходите ко мне, или лучше к Надводнюку, — сказал Григорий и взял свой котелок с бруском. Переходя по мостку через ров, Григорий услышал, как косари допытывались у Анания: что Бояр обещал рассказать? Может быть, есть какие-нибудь новости о земле?.. Ананий отвечал уклончиво.
Придя на свой сенокос, Григорий наломал ольховых веточек и отметил межу, чтобы не врезаться в участок соседа. Наострил косу, сбросил гимнастерку, поплевал на руки и начал первый ряд…
…Управившись с покосом, Григорий полез на чердак, нашел под стропилами кельму, брезентовый передник, уровень, осмотрел все это и сказал Наталке:
— Пойду в Бутовку. Может, где печку сложу. Люди панский лес тайком возят, хаты строят… Отнесешь Надводнюку хлеба. Он идет в Сосницу — старику передаст.
Уже в воротах Григорий крикнул:
— Если Дмитро опросит, где я, скажешь.
Шел Григорий на заработки и думал: «Что скажет Надводнюку тот человек из большевистской партии?»
* * *
По ночам неспокойно стало в Боровичах. В сад к Соболевским, где прежде никто из крестьян не бывал, приходили хлопцы, обрывали яблоки, груши-скороспелки. Нина Дмитриевна хотела однажды подстеречь этих хлопцев, но ее забросали палками, и она еле живая убежала. Выходил Сидор дежурить с ружьем, но хлопцы поймали его в саду, поломали ружье и велели молча лежать в будке.
Соболевские слышали, как по ночам скрипели колеса по песчаной дороге. Вдоль улицы ехали груженые возы. Нина Дмитриевна припадала к щелям в заборе, пыталась узнать, кто из крестьян едет. И если узнавала, то приходила в комнату и записывала их имена. Никто в Боровичах не думал о том, берут или не берут его на заметку, и старался ночью забрать с полей Соболевского все то, что пан не успел за день перевезти к себе в усадьбу. Крестьяне ездили на поле целыми семьями. Жали, вязали, накладывали на возы и свозили домой. Кто первым начал — никто не знал. Возили все, друг с друга пример брали. У кого не было тягла, тот приходил с мешками, переносил снопы на плечах, просил лошадей у соседа.
С поля перешли на луга, свозили и прятали копны по овинам, раскидывали стога, забирали сено домой. Всю ночь, спускаясь с горки, тарахтели пустые возы. Всю ночь скрипели колеса тяжело нагруженных возов.