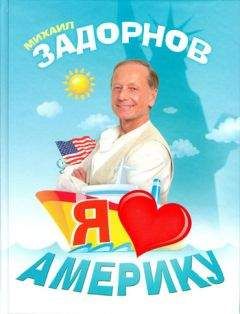Георг Эберс - Уарда
– Дочь фараона оставила в храме Паакера, лазутчика своего отца, чтобы он проводил врачей в дом Пинема, – ответил Пентаур.
– Паакер, не знающий сна из-за дочери какого-то парасхита! – с усмешкой произнес суровый верховный жрец.
Пентаур, который все время стоял, потупив взор, поднял при этих словах глаза и со вздохом сказал:
– А Пентаур, сын садовника, должен заставить дочь фараона совершить обряд очищения! – В словах его звучали и робость и плохо скрытое лукавство.
– Пентаур – служитель божества и Пентаур – жрец будет иметь дело не с дочерью фараона, а с нарушительницей обычая нашей веры, – строго сказал Амени. – Вели передать Паакеру, что я хочу его видеть.
Юноша низко поклонился и вышел из комнаты. Оставшись один, верховный жрец пробормотал:
– Он еще не таков, каким ему надлежит быть, и слова мои не произвели на него впечатления.
На несколько минут воцарилась тишина. Амени, погрузившись в глубокие размышления, молча шагал по комнате. «И все же этот юноша предназначен для великих дел. Чего же ему еще не хватает? – бормотал он про себя. – Он хорошо учится, умеет думать и чувствовать, располагает к себе сердца всех, даже мое. Он сумел сохранить чистоту и скромность…» При этом верховный жрец остановился и, ударив рукой по спинке стоявшего перед ним стула, громко воскликнул:
– Так вот чего ему еще не хватает! Он не изведал еще жара честолюбия. Так зажжем же в нем этот жар на благо нам и ему!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Выйдя от верховного жреца, Пентаур поспешил исполнить его распоряжение.
Он велел служителю провести к Амени Паакера, ожидавшего во дворе храма, а сам пошел к врачам, чтобы попросить их хорошенько позаботиться о пострадавшей девочке.
В Доме Сети училось немало медиков [21], однако лишь немногие оставались здесь после сдачи экзамена на звание «писца». Самых способных отправляли в Гелиополь, где с древнейших времен находился знаменитый медицинский центр страны. Усовершенствовав там свое искусство, они возвращались в Фивы, чтобы посвятить себя хирургии, лечению глазных болезней или другим отраслям медицины. Здесь они либо становились придворными врачами самого фараона, либо занимались преподаванием, а в особо сложных случаях их приглашали на консилиум.
Разумеется, большинство врачей жило в самих Фивах, на правом берегу Нила, в собственных домах, вместе с семьями, однако каждый принадлежал к какой-нибудь жреческой общине. Поэтому, если кто-нибудь нуждался в помощи, за врачом посылали не к нему на дом, а в храм. Здесь, расспросив, чем страдает больной, главный врач храма подыскивал медика, специальные познания которого наиболее подходили для лечения данного случая.
Подобно всем жрецам, врачи жили на доходы от своих земельных владений, но, кроме того, существенную роль играли для них подарки фараона, поборы с верующих и пособия из государственной казны. От своих пациентов врачи, как правило, денег не получали; правда, выздоровевший обычно приносил дары храму, пославшему к нему врача. Поэтому нередко медики-жрецы утверждали, что выздоровление больного будет зависеть от пожертвований храму.
Знания египетских врачей были довольно глубокими, но, вполне естественно, приходя к больному как «служители божества», они не ограничивались рациональным лечением и даже считали такое лечение невозможным без мистического действия молитв и заклинаний.
Среди учителей-медиков Дома Сети были люди самых различных способностей и направлений ума, однако Пентаур не колебался ни одной минуты, кому поручить лечение дочери парасхита.
Врач, на которого пал его выбор, был внуком знаменитого, давно уже покойного медика Небсехта, и звали его тоже Небсехт. Этот молодой врач был лучшим другом Пентаура и его соучеником по школе.
С ранних лет этот юноша, унаследовавший от деда блестящие способности, упорство и любовь к науке, был всей душой предан медицине. Еще в Гелиополе он избрал своей специальностью хирургию [22] и, несомненно, стал бы там учителем, если бы не косноязычие, не позволявшее ему громко читать заклинания и молитвы. Однако этот недостаток, глубоко огорчавший родителей Небсехта и его учителей, пошел ему на пользу. Как нередко случается в жизни, мнимые преимущества порой оказываются нам во вред, а мнимые недостатки часто приносят подлинное счастье. В то время как сверстники Небсехта упражнялись в песнопениях и декламации, он, лишенный этой возможности, целиком отдался своей врожденной склонности к наблюдению органической жизни природы. Учителя в какой-то мере поощряли этот дух исследования и извлекали пользу из его обширных познаний в анатомии человека и животных, а также из ловкости его умелых рук.
Его глубокое отвращение к мистической стороне науки неизбежно повлекло бы за собой тяжкую кару, а быть может, даже изгнание, если бы оно хоть как-нибудь проявлялось в его словах и поступках. Но Небсехт принадлежал к типу молчаливого ученого, целиком поглощенного наукой и свободного от честолюбивого желания возвыситься. Он находил глубочайшее удовлетворение в своих исследованиях, покорно подчинялся каждому требованию публично показать свои способности и знания, но при этом не терпел посягательства на свою скромную и трудную жизнь ученого.
С этим человеком Пентаур сблизился больше, чем с другими товарищами по школе.
Он восхищался его знаниями и искусством врача, а когда Небсехт, слабый телом, но поистине неутомимый, бродил в поисках растений, или животных по зарослям папируса на берегах Нила, по пескам пустыни или горам, Пентаур охотно сопровождал его и неизменно извлекал из этих прогулок большую пользу для себя. Его спутник видел много такого, что без него навеки осталось бы сокрытым от глаз поэта, а иные предметы, известные ему лишь внешне, обретали новое содержание, новый смысл благодаря объяснениям молодого исследователя. И куда девалось его косноязычие, когда нужно было рассказать другу о впервые замеченных им особенностях того или иного существа!
Поэт любил своего ученого друга всем сердцем. Небсехт тоже любил Пентаура, обладавшего всем, чего недоставало ему самому: мужской красотой, ребяческой веселостью, прямодушием, восторженностью художника и талантом выразить словом все, что волновало его сердце.
Пентаур был совершенным профаном в науке, которую в совершенстве изучил его друг, но, несмотря на это, обладал удивительной способностью понимать даже самое трудное и сложное. В конце концов Небсехт стал считаться с мнением своего друга больше, чем с суждениями своих товарищей по профессии, ибо там, где Пентаур высказывался свободно и независимо, они попадали в плен предвзятости и традиций.
Комната молодого ученого, отделенная от остальных жилых помещений, находилась под одной крышей с житницей Дома Сети. Хотя по размерам она скорее походила на зал, Пентаур всюду натыкался на целые снопы всевозможных трав, на его пути громоздились клетки из пальмовых ветвей, поставленные друг на друга по четыре и по пять штук, не говоря уже о бесконечном множестве больших и маленьких горшков, обвязанных бумагой с проколотыми в ней отверстиями. Во всех этих клетках и горшках копошились разные животные – от тушканчика, большой нильской ящерицы и желтой совы до лягушек, змей, скорпионов и разных жуков.
На единственном столе, стоявшем посреди комнаты, рядом с письменными принадлежностями лежали кости животных, а также острые ножи из кремня и бронзы самых различных видов и форм. В углу была расстелена циновка, а деревянное изголовье на ней указывало, что она служит ученому постелью.
Едва только у входа в это странное помещение послышались шаги Пентаура, хозяин, словно школьник, прячущий от учителя запретную игрушку, сунул под стол какой-то предмет и, набросив на него покрывало, поспешно спрятал в складках своей одежды острый осколок кремня, закрепленный в деревянной ручке [23], которым он только что орудовал. Затем он сел и сложил на груди руки с видом человека, погруженного в праздные размышления.
Единственная лампа, укрепленная на высокой подставке возле стула, скупо освещала комнату, но даже и этого скудного света было достаточно, чтобы Пентаур, хорошо знавший все привычки своего друга, тотчас понял, что помешал Небсехту, занимавшемуся запретным делом. Узнав вошедшего, Небсехт кивнул ему в знак приветствия и сказал:
– Ну, уж тебе-то не следовало бы меня пугать!
Потом он нагнулся и вытащил из-под стола то, что спрятал там, когда вошел Пентаур. Это была доска с привязанным к ней живым кроликом; в его вскрытой и растянутой деревянными палочками груди билось сердце. Не обращая больше внимания на друга, Небсехт вновь углубился в прерванные наблюдения.
Некоторое время Пентаур молча смотрел на ученого, затем, положив ему на плечо руку, сказал:
– Советую тебе впредь запирать дверь, когда ты занимаешься запрещенными делами.