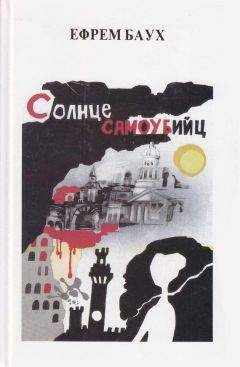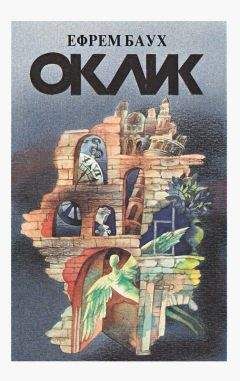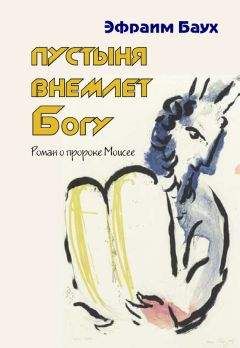Эндрю Миллер - Жажда боли
— Пойдем. Здесь холодно, даже для тебя.
Она глядит на него глазами, похожими на черные камушки.
— Это всего лишь мелкие фермеры, — продолжает он. — Пошумят и перестанут. Только и всего. — Он поднимает кувшин. — Пойдем. Посидишь у огня вместе со мной и Сэмом.
Джеймс приносит пиво на кухню и ставит на стол. Ему очень хочется верить, что она счастлива, по крайней мере довольна.
— Ага! Ваш ликсир жизни, доктор. Вы не дали нам умереть от жажды.
— Долгих вам лет, джентльмены! Здоровья и счастья.
— А вы с нами не выпьете?
— Если компании это будет приятно.
— Хорошо сказано, дружище!
Кувшин передается из рук в руки, и каждый, наливая, выплескивает пиво на стол.
— Нужен тост, друзья!
— За здоровье короля!
— За Георга-фермера, старого песочника!
— За лучшую бабенку на свете!
— Нет, ребята, — это говорит Уин Талл. — За нашего доктора Дайера. Не так уж он рад этому названию, уверяю вас… — Все кричат «ура» его мудрости. — Но раз он не пользует своими лекарствами ни мужчин, ни женщин, а нож берет в руки лишь для того, чтоб отрезать кусок хлеба, то ни один врач в королевстве не спасает больше человеческих жизней, чем он!
Тост произнесен.
— Весьма благородно с вашей стороны, джентльмены, — говорит Джеймс. — Весьма.
Чей-то голос:
— Где Уилл Кэггершот? Ну-ка выдай нам стих, Уилл. Про Салли Солсбери!
Кэггершот, пошатываясь, поднимается со скамьи:
— «Эпитафья бедняжке Салли Солсбери».
Товарищи смотрят на него глазами счастливых школьников. Кэггершот откашливается:
Здесь лежит на спине, но недвижно вполне
Наша Салли, под траурный звон,
По дороге порока проскакав во весь дух,
Потому дух и вылетел вон.
К наслажденьям летела бедняжка моя,
Но, споткнувшись, упала она,
И хотя всем казалось, что жизнь ее двор…
Он замолкает, тараща глаза поверх голов своих собутыльников на дверь в чулан. Остальные, повернувшись, смотрят туда же. Джеймс встает со скамейки перед очагом, разводя руками, словно хочет вновь привлечь внимание собравшихся.
— Это всего лишь Мэри, джентльмены. Нет нужды обрывать песню.
— Мы знаем, кто это, доктор.
Кэггершот садится. Фермеры переводят взгляд в центр стола. Джеймс пожимает плечами, направляется к Мэри, подводит ее к скамейке и сажает рядом с Сэмом. Постепенно разговор возобновляется, как старая засорившаяся и вновь прочищенная помпа. Фермеры пьют; им подают новые напитки. О Мэри забыли. Кэггершот поет свои песни, одна непристойнее другой. Вдруг Ин Талл, брат Уина, бессменный и жалкий шут компании, тычет своим дрожащим пальцем в сторону Мэри и спрашивает:
— А как нащот женщины, доктор, чтоб она зубы показала и вообще.
Остальные хором подхватывают просьбу, и тут становится ясно, что Ин высказал то, о чем думали другие. Джеймс немного боялся такого поворота событий, но все же надеялся, что до этого дело не дойдет из-за уважения к нему, «доктору», другу пастора и очевидному покровителю Мэри. Его словно ужалило столь явное предательство. Но кроме себя винить некого, сам же ее привел. Он встает, набрав в легкие воздуха.
— БАЛАГАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!
Никто из присутствующих, даже Мэри, не знал Джеймса Дайера в ту пору, когда этот безукоризненный молодой человек отправился в Россию осенью 1767 года. Никто не видел его в зените славы, овеянным громом и молнией, жмущим руку послу при императорском дворе так, словно послу выпала небывалая честь приветствовать его. Никто не мог бы даже вообразить подобное, кроме, пожалуй, Сэма, расставляющего в своем воображении великолепные фигуры всех действующих лиц из рассказанных Джеймсом историй. На мгновение фермеры попросту утратили дар речи.
Немая сцена нарушается звуком, подобным шелесту накрапывающего дождя. Это Мэри подходит к столу, аккуратно сложив руки у пояса, точно собирается спеть. Выдержав паузу — как на театре, — она разжимает губы, оскаливаясь, так что всем становятся видны ее обнаженные до десен передние зубы, спиленные до острых концов. От изумления сидящие за столом испускают негромкий стон. Это куда лучше, чем двухголовый баран или математическая рыба в вонючей палатке на деревенской ярмарке. У фермеров такое забавное выражение лиц — многие непроизвольно повторяют ее оскал, — что ярость Джеймса обращается в смех, громкий и раскованный, который вполне мог бы вызвать недобрую реакцию гостей, не появись на кухне его преподобие с подозрительно красным, несмотря на кровопускание, лицом — результатом пятичасового пиршества и карточной игры. Он вопросительно вглядывается в Джеймса, затем обращается с речью к фермерам:
— Боюсь, джентльмены, я не смею вас более задерживать. Сам я тоже немало сил отдаю фермерству и понимаю, сколь велико ваше стремление поспешить домой.
Появление хозяина, пусть даже приходского священника, лишенного величественного ореола, действует неприятно отрезвляюще. Трубки выбиты, кружки допиты. На лицах проступает предчувствие холода, который придет с рассветом; опять надо будет возиться с непослушной скотиной, шагать по замерзшим, темным полям, подобно первому, а может, последнему человеку на земле.
Джеймс выносит шляпы и пальто, шарфы и рукавицы, сожалея о том, что смеялся. Двор наполняется движением — шарканьем и топотом людей и коней. Залившийся бешеным лаем при их появлении пес получил от пастора шлепок и теперь лежит на брюхе, едва-едва сдерживаясь. Копыта стучат по булыжнику, словно град камней. Фермеры отъезжают, их кони находят тропинку, ведущую к дороге, и наконец только Джеймс, Сэм и пастор остаются среди наступившей тишины, обрамленные светотенью пасторского фонаря.
Мальчик дрожит. Его преподобие глядит на него с удивлением.
— В уме ли ты, Сэм? Ты ведь мог поехать домой с кем-нибудь из гостей.
— Я провожу его, — говорит Джеймс. — Это я задержал Сэма своими историями.
— Ах, историями… — Пастор кивает с таким видом, будто для него это слово означает нечто особое. — Да, вам есть что рассказать.
— В некоторых вы принимали участие.
Улыбка мелькает на губах пастора.
— Что правда, то правда. — Он нюхает воздух. — Смотрите, не поскользнитесь на льду, доктор. Не желаете ли взять с собой фонарь?
— Нет, мы с Сэмом изучаем звезды. Без фонаря их лучше видно.
Сэм бежит в дом принести пальто себе и доктору и еще захватить Джеймсову палку. Стоя во дворе в ожидании мальчика, Джеймс замечает повязку, торчащую у пастора из-под парика. Ему хочется спросить, как тот себя чувствует, но слишком уж неприятно вспоминать о кровопускании. С облегчением Джеймс замечает, что пастор кивком указывает ему на раскрытую дверь — там при свете свечей Сэм прощается с Мэри.
— Она ему нравится, — говорит пастор.
— Да, между ними что-то есть.
— Она когда-нибудь говорит с ним?
Джеймс пожимает плечами:
— Он ее и так понимает.
Сэм приносит Джеймсу его тяжелый сюртук с глубокими поместительными карманами, куда обыкновенно укладываются книги, яблоки и бумага для рисования.
— Ну что ж…
— Храни вас Бог.
— Доброй вам ночи.
— Доброй ночи. Доброй ночи, Сэм.
Они расходятся. Пастор поворачивает к дому, чешет за ухом у пса и вздыхает — вздыхает так тяжело, что самому удивительно. Ему чудится, будто его тело обладает каким-то тайным знанием, которое следует передать рассудку. В виске пульсирует кровь; он осторожно дотрагивается до него двумя пальцами. Странно, что Джеймс так разнервничался. Странно, что человек вообще может так перемениться. Конечно, как доктору ему конец. А какой это был талант! Правда, раньше он был человеком грубым и бессердечным. Но приносил пользу, Господь свидетель. Кто более нужен миру — человек хороший, но обыкновенный или выдающийся, но с ледяным, с каменным сердцем? Трудно сказать. Что-то пес больно тощ. Надо бы выгнать глистов. Ну а теперь пора спать. И увидеть хороший сон.
5
От дома почти милю надо идти по разбитой копытами тропинке, пока не доберешься до моста и дороги, ведущей вверх по холму в деревню. Здесь, в тени деревьев и высоких живых изгородей, еще темнее, но луна указывает путь, озаряя глубокие колеи, поблескивающие льдом на морозе, и извилистые ветви, тянущиеся в лучах рассеянного света из мрака во мрак. Когда над головой открывается ясное небо, они замедляют шаг, Сэм следит за согнутой рукой Джеймса, показывающей ему звезды, и они оба долго глядят в бескрайнюю бездну небес, пока сама земля не начинает как будто выскальзывать из-под ног, и им приходится опустить глаза, чтобы не споткнуться. Их шаги спугнули какого-то зверя; в потемках мелькнули только два глаза, а сам зверь показался таким же бесплотным, как быстрый сухой шорох, сопровождавший его бегство через живую изгородь. Сэм утверждает, что это была лиса, говорит, что расскажет Джорджу Пейсу, а тот даст ему за это пенни.