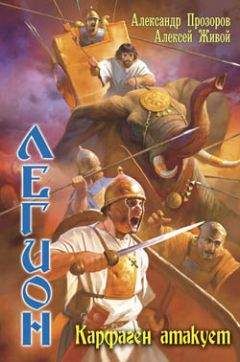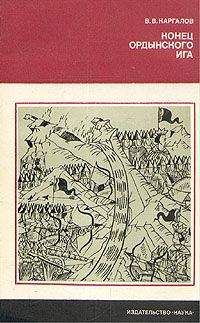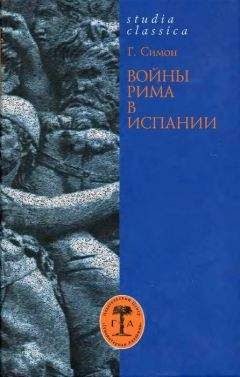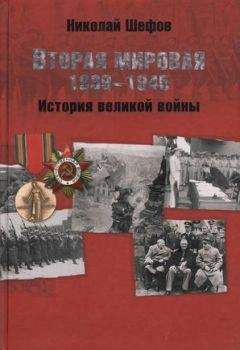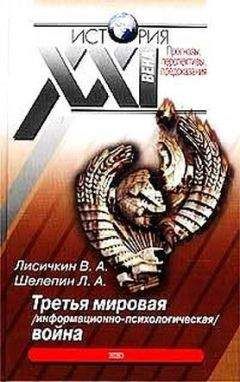Вадим Каргалов - За столетие до Ермака
Дьяк Федор Васильевич Курицын говорил понятнее. Самовластие разума – вот к чему он стремился, в необходимости чего старался убедить собеседников. Самовластие разума не приходит само собой, у темного человека нет свободы, следует он чужим установлениям, как бессловесная скотина. В книжной мудрости сила, в грамоте. Книжная грамота есть самовластие, ничего больше, ибо только она дает вольное разумение сущего, а вольное разумение и есть свобода. Разумом все свершается, разумом!
Получалось из речей дьяка Федора, что не так уж мал и ничтожен человек, что не в смирении и не в отказе от земных радостей его предназначение, но в вольном разумении, в самовластии ума и души. «По-иному жить надобно, по-иному!» – думал Салтык и чувствовал, что расползается его привычная колея, что стоит он как пахарь перед целиной и должен сам прокладывать первую борозду.
Как напутствие звучали веские слова Ивана Волка, жизнелюбца и лукавого мудреца: «Бог создал человека животна, плотна, словесна, разумна! Возрадуемся, братия, жизни светлой!»
Рушились заповеди, открывались запретные радости, кипела кровь. Салтык не находил слов, чтобы выплеснуть эти новые, переполнявшие его чувства, и молча сидел за столом, прислонившись к круглому теплому плечу Ивана Волка.
Приходил домой за полночь, молча раздевался под укоризненными взглядами Авдотьи, подолгу лежал без сна, с открытыми глазами. Перед иконами тускло теплилась лампадка, лики святых были строгими, недовольными. Грех все это, наверно, грех…
А поутру снова с нетерпением ждал, когда придет холоп от Федора Курицына, позовет на братчину.
Но однажды в сумерках приехал на двор Салтыка не посланный холоп, а сам государев дьяк – хмурый, озабоченный. Сунул Салтыку свиток с печатью на красном шнуре – проезжую грамоту, сказал коротко:
– Все Морозовы в опале, и ты – тоже. Отъезжай нынче же ночью в Городец-Касимов [22], к служилому царевичу Нурдовлату. Указ ему от государя, чтоб шел со своими людьми в Дикое Поле, украины тульские и рязанские от Ахматовых детей стеречь. И сам с ним иди, а потом при дворе Нурдовлатовом оставайся, пока не позову. С собой только самых верных слуг возьми, больше никого. И поспешай, поспешай!
Повернулся дьяк, шугнул к порогу. Салтык едва разобрал его последние, брошенные через плечо слова:
– Если сумею, оправдаю тебя перед государем Иваном Васильевичем. А пока сиди тихо.
На рассвете неслышно приотворились ворота Салтыкова двора, выскользнула на пустынную улицу вереница молчаливых всадников: сам Иван, Федор Брех, постельничий Личко, военные слуги Василий Сухов, Иван Зубатой, Иван Луточна, Черныш, Шелпяк. Десятнику у рогатки, что перегораживала ночью улицу, Салтык показал грамоту с висячей печатью. Караульные ратники освободили проезд. Вскоре всадники растаяли в лесу за Яузой.
Был декабрь, месяц-студень, и был канун дня Спиридона Солнцеворота [23], когда солнце на лето первый раз повернуть пробует, А на сердце у Салтыка – лютая стужа.
С большим запозданием доходили до Дикого Поля московские вести. Все Морозовы в опале, вотчины их отписаны на государя. И Салтыку не сошел с рук самовольный отъезд: две вотчинки его тоже прибрали к рукам великокняжеские дьяки. Послужильцы Салтыка, восемь семей, поверстаны в государевы дворяне. Заслуженный воевода Иван Руна тоже в опалу попал, неизвестно за что. Вовремя Федор Васильевич подсказал отъехать, ох как вовремя!
Больше двух лет пробыл Иван Салтык на крымской украине: то бродяжничал с царевичем Нурдовлатом по Дикому Полю, то сидел в столице его – удельном Касимове, что на реке Оке, среди Мещеры. По-татарски лопотать научился не хуже иного ордынца, друзьями-приятелями среди мурз обзавелся.
Правду говорили новгородские вольнодумцы, что нет поганых народов. Хоть и нехристями были татары, а в остальном – люди как люди, получше иных христиан. Воровства промеж ними не водилось, разбоя и смертоубийства – тоже. А что на войне разбойничали, так у них обычай такой: мурзы своим воинам ни корма, ни жалованья не давали, что взял с боя, тем и кормись. Служили касимовские татары верно, по первому слову великого князя срывались в поход – куда пошлет. Ахматовых людей, таких же ордынцев, резали без жалости, а русских пищальников и детей боярских, что с ними подмогой ходили, берегли пуще своих. Царевич Нурдовлат отдал Салтыку своего нукера, Аксая, и стал тот наивернейшим телохранителем, ни на шаг не отставал от воеводы в бою, а где заночуют – спал у порога, с саблей в обнимку. А может, и не спал вовсе: стоило пошевелиться Салтыку, а Аксай уже на ногах, саблю обнаженную у плеча держит. За господина своего жизнь был готов отдать. Как-то раз Нурдовлатов племянник сказал Салтыку обидное слово. Салтык посердился и забыл, а Аксай не забыл. Подполз ночью, на ухо шепчет: «Зарежу его, позволь только!» Салтык не позволил, но в памяти зарубку сделал: на все готов Аксай ради него, даже на кровь. Цены не было Аксаю по нынешним тревожным временам!
Дьяк Федор Васильевич Курицын свое обещание выполнил. Снял великий князь свою опалу с Салтыка, дозволил возвратиться в Москву. Первым делом кинулся Салтык благодарить дьяка Федора, но того на дворе не было. Отъехал Федор с посольством к венгерскому королю. Салтыка встретил Иван Волк, Федоров брат, опять посоветовал сидеть на своем дворе тихо, на братчинах пока не появляться. Митрополит-де Геронтий про братчины прознал, сердится, как бы не накликать новую беду, а Салтык и от прежней беды еще недалеко ушел…
Потянулись недели скучной жизни. То на московском дворе отсиживался Салтык, под присмотром осчастливевшей Авдотьи, то в вотчины свои отъезжал, пребывал там подолгу: подзапустели деревни без хозяйского присмотра, мужики кто куда поразбрелись, тиуны заворовались. Только хлопотами по хозяйству и спасался Салтык от тоски. С нетерпением ждал сына-наследника: Авдотья ходила непорожней.
Но не Божью кару видел Иван Салтык в своем нынешнем скучном существовании. Людская злопамятность, собственное неразумное поспешание, несчастливый случай. - вот причины. Сам упал, сам и подняться должен. Умом все свершается – и хорошее, и дурное. Человек оправдывается делом, а не челобитьем и не молитвами. Вот бы дело какое подвернулось Салтыку, чтоб можно было и разум приложить, и себя показать!
Дьяк Иван Волк нашел для Салтыка большое дело. Поход за Камень, на вогуличей и тюменцев, чего уж больше?! Все уже обговорено, все наказы от дьяка Ивана выслушаны. Грамотка великокняжеская, чтоб воевода князь Федор Курбский слушал Ивана Салтыка как своего товарища, в ладанку на груди спрятана. Сотня московских детей боярских, молодец к молодцу, на – дворе у Салтыка собралась, ждет. Пищальники из московских посадских людей наряд свой на сани поставили, тоже ждут. Последнее осталось: написать духовную грамоту, вотчинами и людьми распорядиться, если не суждено благополучное возвращение.
Троицкий старец Филофей старательно выписывал буковку за буковкой:
«Се яз, раб Божий Иван Иванович Салтык, идучи на службу великого князя на вогуличи, пишу грамоту духовную, кому мне што дата, а у кого мне што взяти. А што в моем селе серебро в Спасском да в деревнях, то серебро прикащики мои зберут, да дадут жене моей. А село Спасское и с деревнями к Троице. А што село на Москве Шерапово, и то село прикащики мои чем обложат, тем серебром долг мой оплатят, а село Шерапово брату моему Михаилу и с деревнями. А што мои слуги, то все с женами и с детьми на свободу. А што мои люди страдные, и прикащики моих тех людей отпустят на свободу и с женами и с детьми…» [24]
Старец удивленно покачивал головой, записывая воеводскую последнюю волю. Ну дворовых людей отпустить на свободу – такое бывало, обычай тому не препятствует. Но чтобы мужиков-страдников? Однако перечить не посмел. Вдруг осерчает воевода, передумает обители спасскую вотчину отписывать? Лучше поостеречься, не спорить…
Глава 3 Князь Федор Курбский Черный
Князь Федор бушевал.
Стонали половицы под бешеными шагами. Катились по столешнице оловянные кубки.
С грохотом опрокидывались тяжелые дубовые стулья.
Испуганно дрожал светлячок лампады перед иконами.
Дворовые холопы попрятались кто куда, и только верный Тимошка Лошак, телохранитель и постоянный исполнитель мгновенных княжеских приговоров, невозмутимо стоял в углу, поигрывая плетью.
Подобного позора князь Федор Семенович Курбский Черный еще не переживал. Из полновластного предводителя большого государева похода он вдруг превратился в товарища какого-то воеводишки, не князя и не боярина даже, а так – из служилых детей боярских. Иван Салтык… Да кто его на Руси знает?! Только и заслуги, что с Морозовыми в дальнем родстве. Но и это еще поглядеть надобно, кто выше местом – он, князь Курбский, или сами Морозовы!