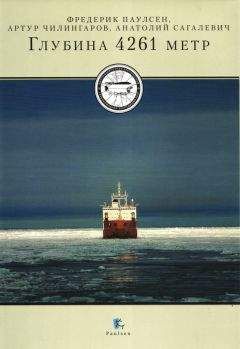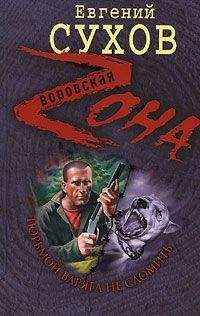Александр Башкуев - Призвание варяга (von Benckendorff)
Когда ж Ломоносов „созрел“, его вернули в Россию с женою и дочками. (Госпожа Ломоносова на момент ареста имела уже чин подполковника прусского абвера…)
„Народного самородка“ никто здесь не ждал. С первого ж дня несчастного упрекали в луковой вони, сморкании в занавесь, шмыганье носом и вульгарным привычкам. (Двор той поры жил на французский манер — страшно далекий от жизни России.)
Ломоносов же не стал терпеть издевательства, а начал приводить во двор мужиков, заставляя их говорить с Государыней. Разница в речи простого народа и „плавном тоне“ дворянства была столь разительна, что Государыня (очень боявшаяся народного гнева) приняла сторону Ломоносова. Он избран был в Академию, а против него ополчилась вся писавшая братия того времени.
Ломоносов стал отвечать — слово за слово, посыпались оскорбления и однажды жена посоветовала ему обратиться в Тайный Приказ. (Один из наиболее рьяных противников „мужика“ работал с польской разведкой.) Сыщики немедля изобличили шпиона, того обезглавили и… Вскоре жена опять „капнула“ информацию — теперь уже на человека французов. Новое следствие, новая казнь, еще худшие отношения с Академией.
Первое время абвер был точен и действительно давал сведения на шпионов. Тайный приказ постепенно привык к тому, что через Ломоносова приходит верная информация. Еще больше в это поверила сама Государыня. Вскоре возникло такое, что Ломоносов мог прийти в Зимний к кузине и „нашептать“ ей на ухо все, что угодно — через голову Тайных. Те все равно проверяли и привыкали, привыкали, привыкали…
Когда Ломоносов открыл первый большой заговор в Академии — в пользу Пруссии, ни у кого не возникло сомнений. Затем — второй. Третий… В самый короткий срок были истреблены все „инородцы“ с научными титулами. За шпионаж в пользу Пруссии.
Так было разгромлено Артиллеристское ведомство, „Навигацкая“ школа, Имперская пороховая палата. Прусские ружья и пушки стали бить быстрей и точнее, чем русские, а фрегаты пруссаков топили наши галеры без передышки.
Но самый страшный удар пришелся по медицине. Все врачи той поры были немцы и всех их перебили, как прусских шпионов. Итогом стал неслыханный мор от дизентерии с ветрянкой и русская армия кончилась. (Болезни убили втрое больше русских солдат, чем все прусские пули, да штыки вместе взятые.)
За это моему прадеду Эриху — отцу и бессменному шефу разведки Железный Фриц вручил „Pour le Merite“ — высший Орден Прусского королевства. (За „отрицательный вклад в науку противника“ — так было в приказе на награждение.)
Когда награждение состоялось, лишь идиоты не осознали, что в России кто-то должен за это ответить. Вы думаете, что во всем виноват Ломоносов? Как бы не так. В реальности, он, как „лицо, учившееся в Германии“, да „имевшее жену — немку“ был не допущен к делам Артиллеристского ведомства — наиболее пострадавшего в сей вакханалии.
Как раз нет. В своих мемуарах мой прадед фон Шеллинг указывал, что в действительности абвер лишь создал атмосферу доносов, бессудных пыток и казней, а дальше русские ученые попросту перебили сами себя — любое несогласье в научных вопросах влекло подозрение в работе на немцев, доносе, пыткам и быстрой казни. (Сыщики уже привыкли к тому, что Академия — рассадник шпионов!)
И вот когда началось следствие, Ломоносова обвинили в том, что он… „подготавливал заговор по убийству Ее Величества (моей бабушки) за то, что она — немка“. Между строк неизвестный доносчик намекал, что Ломоносов — Романовской крови и сам метит на царский престол. А вот этого моя бабушка уже простить не смогла.
Когда Ломоносов был арестован и бабушка всем своим видом и репликами показала — насколько все решено, Академия чуть ли не в полном составе обвинила несчастного во всех смертных грехах, во всех доносах и казнях, и даже — научных провалах всего прежнего царствованья.
Однажды матушка спросила у тетки, — был ли в действительности Ломоносов Романовым, или все это — выдумки? На что бабушка, пожав плечами, сказала:
— Знаешь, милочка, у меня от государственных дел забот полон рот, так что этакими пустяками мне голову забить — недосуг. Да и какая, к черту, палачу разница?!» — на сей аргумент матушка не нашла что ответить и только промямлила:
— Все ж, — невинные души…
На что бабушка отвечала:
— Не я сего мужлана силком ко двору привела. Сидел бы в своих Холмогорах, прятался за печкой, да жег лучину, авось и по-другому бы обошлось! А кто не спрятался — я в том не виновата! — Петр I был мужчиной видным и любвеобильным, зато бабушка ловко играла в прятки. Сыскала не одного Ломоносова, но и княжну Тараканову и даже Иоанна Антоновича — да еще в собственной же кутузке!
Случай с академиком сразу же остудил самые разгоряченные умы (насчет «иноземки на троне»), — а доказание связи академика с абвером привело на ее сторону двор и гвардейцев. С той самой минуты и до смерти ничто более не грозило бабушкину правлению. Когда целые семьи «рубят под корень», это производит неизгладимое впечатление.
Но сам Иммануил Кант — отец «категорического императива» был первым из тех, кто говорил, что в данном случае Ломоносов был использован абвером «в темную» — без злого умысла с его стороны. И абвер нарочно дал повод Екатерине убить академика, как возможного претендента на русский престол. И если уж в России извинились пред Эйлером, нужно простить Ломоносова.
Иль на Руси времена, когда прощают всех немцев, а на плаху ведут теперь русских?! Из уст немца Канта сии разговоры были… смутительны. И бабушка очень хотела вывезти его в Санкт-Петербург. Чтоб заткнуть рот постом, чином и жалованьем.
Матушка впоследствии говорила, что писала Канту, скрепя сердце. Вопрос был, конечно же, скользкий, но видеть падение «Совести» пред грудой презренного злата, — ей не хотелось.
Она написала, как ее хорошо приняли в сей гостеприимной стране. А еще о том, как здесь пьют, как порют дворян за малейший проступок, как пишут доносы… В общем — обычную дворцовую жизнь.
Когда письмо было готово, и матушка принесла его в Канцелярию, секретарь, просивший написать его, порылся в каких-то бумагах и произнес:
— Ой, простите, дело сие — под контролем Самой… Вы обязаны сами доложить ей об исполнении. Государыня пометила, что с этим письмом к ней должно прибыть вне очереди.
Капитана прусского абвера вводят в кабинет Государыни. Та в своем рабочем наряде стоит за конторкой и листает бумаги. При виде вошедших она снимает с носа золотые очки на широкой шелковой ленте и, протирая пальцами усталые, покраснелые глаза, спрашивает:
— Письмо готово? — задан вопрос по-немецки, и матушка щелкает каблуками в ответ, подавая запечатанный конверт Государыне. Та скептически усмехается, меряя взглядом племянницу, и небрежно машет рукой, приказывая по-русски: — Прочтите кто-нибудь… я — занята. Доброго Вам здоровья, милочка.
Офицер охраны поворачивается, дабы увести немку, но та… Она стоит с побелелым лицом, с ярко-алыми пятнами на щеках, и срывающимся голосом говорит по-немецки:
— Ваше Величество, мне сказали, что это должно быть частное письмо. Вы не смеете нарушить Вашего Слова. Позвольте мне уничтожить письмо, и я напишу другое — официальное, — при этом она тянет руку, чтоб забрать конверт со стола, куда его бросила тетка.
Но тут на нее прыгают три офицера охраны, которые начинают ломать ей руки и вытаскивать из монаршего кабинета. Царица сама поднимает злосчастный конверт и приказывает:
— Нет, я прочту это при ней. Сдается мне, — речь об Измене. Только заткните ей рот, чтобы не вякала.
Приказание сразу исполнено, и пленница троих здоровенных мужчин тотчас стихает.
Государыня долго читает письмо, пару минут думает о чем-то своем, разглядывая свой маникюр, а затем говорит:
— Пора мне сменить куафера. На словах-то все верно, да вот между строк… Маникюр знаешь?
Девушка в форме капитана прусского абвера с досады кусает побелелые губы, — видно с ней никто не говаривал в унижительном тоне. Поэтому она не выдерживает:
— Никак нет, — Ваше Величество. Если мне и приходилось драить копыта, — так только — жеребцам, да кобылам. Но если Вас это устроит…
Государыня усмехается чему-то своему, девичьему, и, по-прежнему не удостаивая даже взглядом строптивицу, цедит:
— Меня устроит. Только учти, — не справишься — выпорют! Лакеев здесь всегда порют. За болтовню за хозяйской спиной.
Ты норов-то свой поубавь… Не таких кобылиц объезжали — дело привычное.
И потом, — что за вид? Что за мода?! Здесь тебе не училище и не монастырь, — девицы пахнут жасмином, но не — конюшней.
Я сама выбираю жасмин, — это наш родовой аромат. Имеющий нос, да учует. Или мне и это тебе объяснять?!
Что касается письма… Это испытание на лояльность. Ты его не выдержала. В другой раз — выпорю, — после чего Государыня, вкладывает письмо обратно в конверт и сама лично запечатывает его королевской печатью. Со значением показывает печать и добавляет: