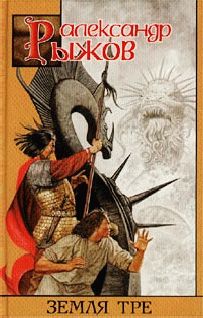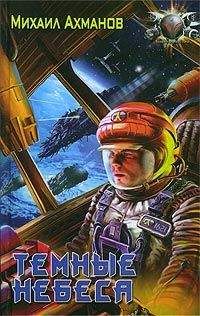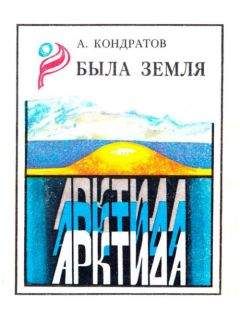Марк Алданов - Повесть о смерти
Через полвека после того Октав Мирбо поместил в одной из своих книг длиннейшие «разоблачения», вызвавшие много шума во Франции. Это был рассказ довольно известного в свое время художника Жигу. Он сообщил Мирбо, что еще при жизни Бальзака был любовником его жены и провел с ней в доме на улице Фортюнэ ту ночь, когда Бальзак умер. Подробностей рассказал множество, одна была отвратительнее другой. Сиделка стучала в дверь и кричала: «Мадам, мадам, идите: мосье умирает». Госпожа Бальзак хотела было одеться и побежать к мужу, он, Жигу, ее удержал; минут через десять сиделка снова прибежала с криком: «Мосье скончался!»
Вдовы Бальзака уже тогда не было в живых, но графиня Мнишек еще жила и с негодованием протестовала против клеветы. Кое-кто говорил, что Мирбо просто всё выдумал; ничего такого Жигу ему не рассказывал. Позднее выяснилось, что этот рассказ слышали от художника и другие. В настоящее время часть французских «бальзакистов» верит этому рассказу, другая часть не верит. Вдова Бальзака года через два после его кончины стала «гражданской женой» Жигу, — как Аспазия после смерти Перикла вышла замуж за скотовода. Вечной верностью умершему мужу Ганская никак не была обязана. Но когда она писала, что в 1850 году «забыла людей и мир в своем невыносимом горе», это было, конечно, чрезвычайно сильное преувеличение.
Рассказ Жигу так циничен и грязен, что поверить ему трудно; разумеется, и не заслуживает доверия человек, который так говорил об умершей женщине, бывшей много лет его собственной женой. Едва ли госпожа Бальзак изменяла мужу в его последние дни, и, не будучи извергом, она не могла изменять ему в минуты его агонии. К тому же, она всегда боялась скандалов, а в обстановке, описанной Жигу, скандал на весь мир был бы неизбежен. О нем через месяц узнали бы и в Польше.
Но что бы ни было причиной раздора, — главная роль всей жизни Бальзака, любимая роль огромного репертуара, роль страстно влюбленного в Ганскую человека, кончилась худо и бесславно.
Ему теперь было больше и не до ролей. Он крепился из последних сил. Отправил Теофилю Готье письмо почти веселое, называл себя «мумией, лишенной слова и движения». Писать уже не мог, продиктовал жене, но собственноручно приписал несколько слов: «Не могу ни читать, ни писать».
Затем началась гангрена, он заживо сгнил. Жигу и здесь привел подробности: нос Бальзака будто бы вытек на простыню. Кое что сходное, без таких преувеличений, сообщали и другие. Воспоминаний о последних его днях осталось слишком мало: о том, что думал и чувствовал умирающий Бальзак, мы можем лишь делать догадки. — Имеем ли право?
Перед ним теперь был общий, главный, основной вопрос жизни: зачем? зачем всё это было?
Едва ли философские мысли, которые он разбрасывал в книгах, могли дать ему хоть какое-либо утешение. Всё в них было совершенно противоречиво, и он верно утешался тем, что противоречива и сама жизнь.
Мало было толку и от его политических идей, — тут в полном недоверии к человеку он был гораздо ближе к Бланки, чем к своим «единомышленникам». Понимал, что никакой «системы» после себя не оставляет, и ни для чего ему теперь не была нужна система.
Та самая «злая правда», которую он любил в литературе и не любил в жизни, теперь издевалась над ним, как бы подтверждая его писания: жизнь сделала Гран- Гиньоль из его собственных последних дней. Созданное такими усилиями «гнездышко» было чудесно, но в нем оставалось прожить несколько недель в самых тяжких физических и моральных страданиях, в полном безобразии среди произведений искусства. Злая правда торжествовала, — однако теперь это была правда о нем самом. Дело было уже не в биографиях, — он им и прежде не верил, — как Фридрих II не верил истории и называл ее «компиляцией разных видов лжи с редкими проблесками истины».
Говорили, что он звал великого врача Бианшона, никогда в действительности не существовавшего: это был врач, созданный им в романах. У него искусство и жизнь были нераздельны. Бальзак написал без малого сто книг. Вероятно, в последние свои часы яснее, чем когда бы то ни было, видел свои писательские(как и человеческие) недостатки. Слишком часто писал так, точно рубил топором, — что-то крепкое, тяжеловесное создавал и тогда, но топорно и выходило. Как все настоящие писатели, о многом из написанного сожалел. Иногда, перечитывая, морщился и вскрикивал: как мог это написать! То, что когда-то нравилось, теперь казалось ужасным. Быть может, перестало ему нравиться и общее заглавие его главных книг, когда-nо доставившее ему такую радость. Не всегда люди играют комедию, и столь ли многое в их жизни так смешно и гадко?
Но он знал, не мог не знать, что творческая сила была ему дана необычайная, что искусству он служил хоть с ошибками, верой ч правдой, — изображал жизнь такой, какой ее видел. Быть может, перед смертью он не нашел лучшего утешения. Но это у него оставалось: «Человеческая комедия» тоже была бессмертием.
В свой последний день Бальзак велел вызвать доктора Наккара и сказал ему, что хочет знать всю правду. «Такой человек, как я, обязан перед обществом составить завещание».
Существуют разные мнения о том, имеет ли право врач сказать больному, что он умирает. Некоторые врачи говорили правду, — как Мандт Николаю I, как Шольц Пушкину. Очевидно, Наккар был таков же.
Сколько времени вам нужно (для завещания)? — спросил он.
Шесть месяцев, — ответил Бальзак.
Увидев по лицу доктора, что на это никакой надежды нет, он сказал:
Но хоть шесть недель?.. Хоть шесть дней?
Кто может гарантировать хотя бы один час? Люди, считающие себя здоровыми, могут умереть раньше вас. Но вы желаете знать правду… Вы должны составить завещанье сегодня же… Нельзя ждать до завтрашнего дня.
Бальзак поднял голову.
Значит мне остается шесть часов! — вскрикнул он с ужасом.
17 августа у Виктора Гюго был обед и прием. Стало известно, что Бальзак умирает. Несмотря на случавшиеся иногда раздоры, Гюго преклонялся перед автором «Человеческой комедии», как и тот преклонялся перед ним. Бросив своих гостей, поэт отправился на улицу Фортюнэ. Вернувшись, он записал, что видел. Эта страница, опубликованная через много лет, когда и его самого уже не было в живых, принадлежит к лучшему из всего им написанного. Гюго никого не обвинял. Он даже не пытался хоть намеком подчеркнуть одиночество, в котором умирал Бальзак.
Знаменитое имя посетителя отворяло двери. Горничная проводила его к умирающему.
«Я был в комнате Бальзака.
По средине комнаты стояла кровать… Бальзак лежал на ней, опустив голову на груду подушек. Поверх них лежали красные бархатные подушки, взятые со стоявшего в комнате дивана. Лицо у него было фиолетовое, почти черное, оно было наклонено вправо, не выбрито, седые волосы были коротко острижены, глаза были открыты, взгляд был неподвижный. Я смотрел на него в профиль. Он был похож на Императора.
По сторонам кровати стояли старуха-сиделка и слуга. Позади изголовья на столе горела свеча. Другая стояла у двери на комоде. На ночном столике была серебряная ваза.
Слуга и старуха молчали с выражением ужаса на лицах и слушали, как хрипит умирающий.
От постели шел нестерпимый смрад.
Я поднял одеяло, взял его за руку. Она была покрыта потом. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие»…
Бальзак умер через несколько часов.
На его похоронах какой-то давным давно забытый министр сказал Виктору Гюго: «Это был почтенный человек». Гюго сердито ответил: «Это был гений».
КОНЕЦ
Примечания
1
В не очень точном переводе: «Этот сон природы перед бурями — мы находим его подобие в дремоте общественного мнения в последние годы монархии».
2
«У него была та болезнь, природа которой ускользает от самого тщательного исследования. Но ее следствия хорошо известны: усталость от жизни, равнодушие к тому, что волнует громадное большинство людей, и общее чувство мрачной подавленности».
3
«Он никогда не сидел, когда можно было лежать, и никогда не стоял, когда можно было сидеть».
4
«Всё мое удовольствие в том, чтобы быть печальным. Но в сущности я, дорогой читатель, не знаю, что я такое: добр ли я или зол, умен или глуп. Зато я знаю отлично, что мне доставляет огорчение и что удовольствие, знаю, чего я желаю и что ненавижу».
5
«Бывают минуты, когда меня охватывает страх, что я проснусь старым, больным, не способным внушать какое бы то ни было чувство (это уже начинается). Тогда я схожу с ума. Гуляю в меланхолии по пустынным местам, проклиная жизнь и нашу отвратительную страну, — единственную, где можно жить… Я в этом году написал шестнадцать томов».