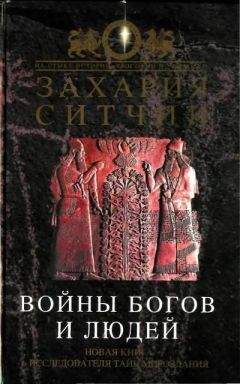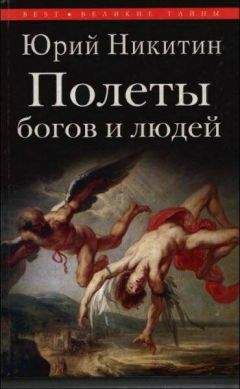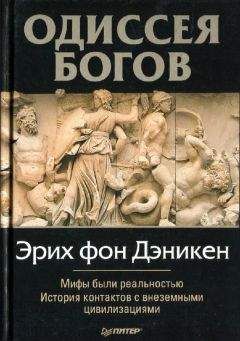Н. Северин - Звезда цесаревны
Да, это был Алешка Розум, тот самый ладный хлопчик, которого все так любили и в Лемешах, и во всем повете. Перемена в судьбе отразилась только на его внешности, не задевая ни с какой стороны его души, и все та же тихая, мечтательная грусть таилась в глубине его больших темных глаз, как и тогда, когда он жил одним только предчувствием того, что должно было его постигнуть, — предчувствием до того смутным и неопределенным, что ждать осуществления мечты он мог только в небесах, в сверкавших над его головой звездах да в скользивших по небу облаках.
Вот он переговорил с товарищами о спетом концерте, заметил что-то такое регенту так тихо, что слов его Ермилыч не мог расслышать; вот его опять окружают, о чем-то просят, он с добродушной улыбкой качает головой, отказываясь, без сомнения, участвовать в другом номере и отходя от хора, который сошелся, чтоб продолжать пение, он приближается к двери, у которой стоит его старый друг. Теперь он от него так близко, что можно разглядеть, как он похудел и осунулся с тех пор, как они не виделись: лицо удлинилось, нос обострился и щеки немного впали. Он красивее прежнего, но нет уже в нем прежней юношеской прелести и свежести. Жизнь прикоснулась к нему страстями и страданиями, и в борьбе с ними сердце замкнулось в стремлении к одной цели — не утратить сокровища, без которого жизнь не имела для него ни малейшего смысла… И вдруг он поднял глаза на дверь в десяти шагах от него в ту самую минуту, когда, увлекшись любопытством, Ермилыч неосторожно подался вперед, глаза их встретились, и не успел старик очнуться, как две сильные руки его обнимали и дрожащий от радостного волнения голос шептал, пригнувшись к нему так близко, что он почувствовал горячее дыхание на своем лице:
— Дяденька Ермилыч! Какими судьбами ты сюда попал? Зачем не пришел прямо ко мне? Я сам все рвался к тебе в монастырь, да не мог удосужиться…
Не выпуская его из своих объятий, он прошел с ним в пустую комнату в конце коридора, рядом с той, где Ермилыч провел с Ветловым ночь, и, усадив его на широкую обитую кожей лавку, сел напротив него на стул и, не спуская с него сверкавшего любовью и радостью взгляда, повторил свой вопрос:
— Какими судьбами ты здесь очутился?
— К тебе притащился, хлопчик, да так меня тут тобою напугали, что, не приди ты сам на спевку, я так бы и ушел, не повидавшись с тобой, — отвечал старик.
— Дяденька! Да как же это тебе не грех?
Упрек этот вырвался у него из глубины сердца так искренно, что Ермилыч расчувствовался и, забыв все на свете, обнял красавца в богатом шелковом халате, как бывало обнимал юношу в рваном кафтанишке, и прижал его к сердцу.
— Давно ли от матки у тебя были вести? — спросил он, оправившись от волнения.
— Недавно, дяденька, цесаревна нарочного посылала в Лемеши про здоровье ее узнать, — продолжал он с возрастающим оживлением. — Подарки ей послала, письмо написала, так ее утешила, что она сама не своя от радости… Время такое, что отлучиться мне отсюда невозможно, а то слетал бы я к моей родимой! Да ты, верно, слышал, какая у нас тут беда стряслась? Как нашего бедного Шубина мучили и так далеко сослали, что никому его и не разыскать! Что мы выстрадали! Каких страхов навидались! Ведь чуть было и цесаревну не увезли в монастырь, чтоб силком постричь! Страшно вспомнить, каким непоправимым несчастьям мы подвергались! Просто можно сказать, что, как в аду, мучились… и даже того хуже, там только за себя страдаешь, а здесь душа за нее терзалась… А люблю я ее больше жизни, дяденька! Что жизнь! Сто жизней отдал бы я с восторгом за нее! Поверишь, все вот Шубина жалеют, а я ему завидую! Право, вот как Бог свят, завидую! Он ей доказал свою любовь, а мне доказать ей мою преданность нечем!
— Подожди, может быть, и твой черед придет за нее пострадать, — утешал его старик, забывая, для чего он сюда пришел, и увлекаясь отрадой видеть Алешку Розума таким, каким он оставил его пять лет тому назад в Лемешах, таким же, как тогда, чистым, ясным, великодушным мечтателем.
А уж как был счастлив Розум возможностью излить в дружескую душу чувства и мысли, переполнившие его сердце! Не было у него здесь ни одного человека, столь ему близкого, как этот старик, знавший его в родной обстановке и способный понять его во всей полноте. С ним только и мог он говорить про мать, про своих хохлов, про все, что составляло предмет его любви и забот с тех пор, как он себя помнил. Кто здесь поймет неизреченную прелесть тихой, мирной украинской природы, среди которой он вырос и так мало похожей на здешнюю? Нет у него таких слов, которыми можно было бы объяснить здешним людям сокровища детской, чистой веры в святые идеалы, хранящиеся в душе украинского народа, как нет слов описать таинственную прелесть украинской звездной ночи и величавую красоту душистой украинской степи. Даже и той, которая ему дороже жизни, в присутствии которой он чувствует себя как бы перенесенным силой ее прелестей в другой мир. Даже и ей не осмеливается он открыть доступ в святая святых своей души из опасения подметить недоумение в ее глазах или усмешку на ее губах. С Ермилычем же можно было не стесняться — этот все поймет! недаром прожил он с ним и с его близкими одною жизнью несколько месяцев, наслаждаясь вместе с ними их невинными радостями и более их печалями. Нисколько не удивился он, когда Розум сознался ему в порыве сердечных излияний, что его иногда так тянет в Лемеши, чтон хоть одним глазком взглянуть на родную хатку, чтоб хоть минутку подышать родным воздухом, что он, кажется, полжизни отдал бы за эта счастье.
Как у всех людей с сильно развитым воображением и сдержанным, необщительным нравом, когда им доводится высказывать без стеснения то, что у них накопилось в сердце, речь его была сбивчива и непоследовательна, а слова бессвязно срывались с языка по мера того, как представления и воспоминания воскресали в уме: от Лемешей перескакивал он к Петербургу, от матери — к цесаревне, от первых впечатлений, здесь испытанных, — к последним страшным событиям, от бедствия, постигшего Шубина, — к мукам, испытанным им самим в долгие дни тоскливого недоумения, когда он знал, что царица его души страдает, а он не только ничем не может ей помочь, но даже не знает, приняла ли бы она от него утешение, если б он нашел возможность плакать и молиться с нею.
Какое это было ужасное время! Постоянно говорили вокруг него про нее и все не то, что ему так страстно хотелось знать, все не то, чего жаждала его душа.
— С тоски бы я тогда погиб, кабы не Лизавета Касимовна. Одна она поняла мою душевную муку и утешила меня надеждой на то, что придет время, когда про меня вспомнят. А когда наконец вспомнили, она же явилась ко мне с этой благой вестью… Мы были тогда в Москве и собирались переезжать в Александровское, и все радовались надежде увидеть цесаревну… все, кроме меня. Сердце так было полно опасений, что для радости не было места. Ведь потерять ее после того, как она меня к себе приблизила, было бы тяжелее, чем если б я остался в Украине и никогда, кроме как в грезах, ее бы не видел! Как же мне было не страшиться и не тосковать? Но что сердце у меня не разорвалось от радости, когда она про меня вспомнила, — это уж прямо я и понять не могу. Так все это чудно, что, право же, даже и счастьем назвать нельзя. Поверишь ли, что я и теперь тоскую от этого счастья столько же, если не больше, сколько тосковал раньше с печали, страха и отчаянья. Ноет у меня сердце даже и тогда, когда она прижимает меня к себе и твердит, что любит меня так, как никогда никого не любила… И ведь не то чтоб я ей не верил или чтоб сомневался в будущем, нет, ни в чем я не сомневаюсь, ничего не страшусь, а чего хочет сердце, к чему оно стремится, когда ему все дано, чего оно теперь жаждет, — не знаю! Не знаю, — повторил он с тоскою, обхватив руками голову и закрывая ими взволнованное лицо.
А спевка продолжалась, и окружавший их воздух был полон звуков небесной гармонии, уносивших душу все выше и выше, к блаженной обители, где нет ни плача, ни воздыханий.
— Надо молитвой, покаянием и добрыми делами искупить грех, Алеша, — торжественно произнес старик, нарушая наконец молчание, воцарившееся в комнате после последних слов Розума.
— Все для этого делаю, что могу, Ермилыч, — ответил чуть слышно последний, не отнимая руки от лица, по которому текли слезы, и вдруг, порывистым движением сорвавшись с места, — ведь не прикажешь же ты мне от нее бежать? Ты знаешь, что я этого не могу? — вскричал он, устремляя на своего собеседника загоревшийся отчаянием взгляд. — Она так несчастна, так обижена, так беспомощна, — продолжал он, не дожидаясь ответа на предложенный вопрос, — у нее, как у меня, никого нет на свете, с кем бы она могла говорить по душам, как же я ее оставлю? Неужели Господь требует от меня такой жертвы? Неужели я должен для спасения своей души нанести ей такой удар?.. Ты всего не знаешь, Ермилыч, дай мне тебе рассказать… что я для нее… нет, нет, это невозможно! Ты не поймешь… у меня не найдется таких слов… Сжалься надо мной, Ермилыч, скажи мне, что Господь простит нам наш грех! Что можно его замолить… искупить… Вот я тебе скажу, какие у меня замыслы в будущем, что я мечтаю сделать для своих и для всего русского народа… нам бы хотелось, чтоб все русские православные люди были счастливы… чтоб везде царила правда и справедливость, чтоб не было ни одного напрасно замученного, напрасно угнетенного… вот для чего мы желаем царствовать, иметь власть… Если б только все знали, как она добра и великодушна! Как она любит Россию! Если б только это все знали!.. Вот что я еще тебе скажу, Ермилыч, — продолжал он свою сбивчивую речь, хватая его за руку и крепко сжимая ее в своих похолодевших от волнения пальцах, — до сих пор я никогда ничего у нее не просил для себя, для своих… она сама разузнала о моей матери, сама, потихоньку от меня, послала ей письмо и подарки, я уж тогда узнал, когда посланец вернулся… Все это, что ты на мне видишь, — прибавил он, с негодованием теребя на себе роскошную одежду, — я надеваю по ее приказанию и потому, что она этого требует… ничего я своего не имею, все ее, и не моя вина, если все это дорого и великолепно… она к этому привыкла, она была бы несчастна, если б я отказался это носить, она никогда не поймет, как это меня стесняет, как мне это тяжело и неприятно… Что же мне делать? Ну, сам скажи, что? Мучаюсь я всем этим нестерпимо, а изменить не могу… Теперь, с тех пор как у нас отняли Лизавету Касимовну, мы еще несчастнее. Она меня понимала, и с нею я мог говорить… не так, как с тобою, конечно, а все же откровеннее, чем с кем-либо здесь, теперь и это утешение, эта душевная поддержка у меня отнята!