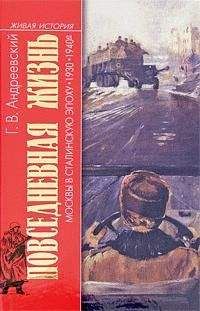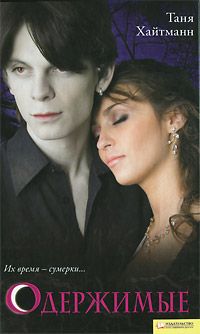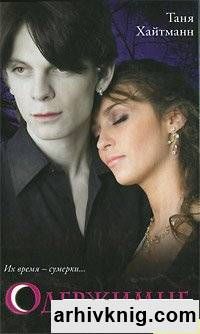Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху, 1920-1930 годы
Маяковского многие любили, но многие и ненавидели. Больше недоброжелателей было среди тех, кто любил салонные романсы. Они не воспринимали поэта и замечали в нем только грубость и гнилые зубы. Есенина, наверное, любили больше. Его поэзия ложилась на музыку, как девушка на пуховую перину: легко и непринужденно. А как мог не полюбить Есенина человек, не лишенный чувства привязанности к хмельному?
Что же вы ругаетесь, дьяволы,
Или я не сын страны,
Или я за рюмку водки
Не закладывал штаны?
Автор этого четверостишия не мог не стать отголоском каждой пьющей и рвущейся из измученного и усталого тела души.
Власти не преследовали поэта. Сталин его не замечал. Троцкий хвалил, Бухарин свои «Злые заметки» о «есенинщине» написал после его смерти. Есенин печатался, критика его любила. В июньском номере «Огонька» о нем было сказано: «Поэт сейчас, по-видимому, находится в расцвете своего крупного дарования. В каждом новом своем произведении он выступает со всевозрастающим мастерством, в котором зрелость сочетается с разнообразием и богатством настроений и сюжетов. От Есенина и критика, и многочисленные его поклонники-читатели ждут весьма и весьма многого».
Литературный критик П. С. Коган в 1922 году писал о нем: «…бунт Есенина, это крестьянский бунт, без выдержки, бунт непрочный, срывающийся и тем не менее близкий и сродный социальной революции. Революция близка ему по необъятности трудовых задач, поставленных ею… Есенин — один из немногих поэтов, душа которого бушует пафосом наших дней, который радостно кричит: «Да здравствует революция на земле и на небесах!»».
Осмысливать сказанное критиком порою труднее, чем сказанное поэтом. Одно ясно: из убогой деревенской избы, где он спал на жесткой лавке, Есенин перебрался в особняки, кабаки и отели. Из однородной и ему подобной среды, лица в которой отличались одно от другого разве что количеством веснушек, он перешел в среду разноплеменную, непонятно говорящую и постоянно суетящуюся. В ней он и сам стал невидалью, посланцем иного мира. Он поражал окружающих не только талантом, но и обликом. Говорили о необычайной голубизне его глаз, о розовости его золотых волос.
Илья Шнейдер вспоминал, как однажды, в особняке балерины Балашовой на Пречистенке, Айседора Дункан, оставленная Есениным, погрозила кулаком лепному ангелочку на стене — он был похож на Есенина.
Прошлая деревенская жизнь, конечно, вошла в плоть и кровь поэта. Расставаться с милыми привычками детства нелегко. Бывало, Есенин, вспоминая их, устраивал «театр для себя». Однажды, закончив работать за письменным столом, он дунул на электрическую лампочку, потом щелкнул ее как маленькую непослушную девчонку по носу и уж после этого выключил. Конечно, тот деревенский быт казался примитивным, просты были отношения между людьми, незатейливы драки с товарищами. Теперь, в большом городе, все было иначе. Воздух в нем в те дни, как писал Пастернак, пах смертью. Это щекотало нервы и угнетало душу.
Однажды, вспоминал Шнейдер, пришел Есенин с каким-то человеком и представил его как знаменитость: «Знакомьтесь, Блюмкин!» Это был тот самый Блюмкин, который убийством немецкого посла Мирбаха сорвал Брестский мир с немцами. Блюмкин — чекист. Он достал из кармана пачку ордеров, позволяющих ему по своему усмотрению применять репрессии к врагам революции, и потряс ею перед присутствующими.
Власть палачей над людьми сколь отвратительна, столь и соблазнительна для неокрепших душ. Не могла она не вносить смятение и страх в сердце поэта. Он спустился в трюм российского корабля — в кабак. Русский мужик, даже поэт, в пьяном виде бывает крайне неприятен. Есенина тоже опьянение не украшало. Из души выплескивалось все, что в ней бродило и не находило выхода в трезвом состоянии: подозрительность, страх, бытовой антисемитизм, брань. Скандалы, дебоши сменялись стыдом за самого себя, стыд сменялся желанием заглушить его в себе вином и т. д. Не был Есенин наследственным алкоголиком. Алкоголизм стал его платой за раскрытие собственного таланта в чуждой среде.
Суматошный русский человек, живший в нем, не давал ему покоя. Из Германии он пишет А. Мариенгофу: «…так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору… В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски». Но и в Москве, по возвращении, все было не так гладко и хорошо, как хотелось.
Столкновения Есенина с органами правопорядка не являлись редкостью. Остановимся на одном таком случае. 20 ноября 1923 года Есенин вместе с поэтами Орешиным, Клычковым и Ганиным находился в пивной на Мясницкой улице. Как объяснял потом Есенин, они пили пиво и обсуждали издание нового журнала, хотели идти к Троцкому и Калинину просить деньги. Через некоторое время они заметили, что человек, сидящий за соседним столиком, их подслушивает. Тут Есенин и говорит кому-то из товарищей: «Дай ему пивом в ухо». Началась ссора. Неизвестный назвал Есенина «русским хамом», на что Есенин ответил «жидовской мордой» (многие русские ругательства строятся довольно просто: к слову «морда» прибавляется прилагательное, обозначающее национальность: «еврейская морда», «татарская морда», «английская морда», «французская морда» и т. д.). После таких слов гражданин вышел и вскоре вернулся с милиционером. Марк Вениаминович Роткин, так звали гражданина, указал милиционеру на сидящих за столом поэтов и назвал их контрреволюционерами. Милиционер пригласил всю компанию в 47-е отделение милиции. Вслед задержанным Роткин бросил: «Русские мужики — хамы!» После того как поэтов увели из пивной, кто-то из посетителей сказал, вздохнув: «Один жид четырех русских в милицию отвел». Потом Демьян Бедный и Сосновский приписали эту фразу Есенину. Рассказывают также, что когда в милиции Есенин позвонил Бедному с просьбой о содействии в освобождении, тот ему отказал. В половине десятого вечера в Мясницкой больнице поэтов подвергли судебно-медицинскому освидетельствованию «на предмет алкогольного опьянения». Все оказались в легкой степени опьянения. Затем дежурный по отделению заполнил протокол-заявление Роткина и допросил задержанных. Ночевали они в отделении. На следующий день, поскольку речь шла не о хулиганстве, а о «разжигании национальной вражды», поэтов препроводили в Московский губотдел ГПУ, где их допросил начальник второго отдела Юрьев. Здесь же был оформлен ордер на личный обыск и арест. Вскоре, по постановлению того же Юрьева, Есенин, Клычков, Орешин и Ганин были освобождены из-под стражи и с них была взята подписка о невыезде. Дело было передано в Московский городской отдел ГПУ, но там оно лежало без движения, а в феврале 1924 года было передано на рассмотрение Краснопресненского народного суда, однако ввиду болезни Есенина (он находился тогда в Шереметевской больнице) рассмотрено не было. 9 мая 1927 года уполномоченный 5-го отделения следственного отдела ОГПУ Гендин прекратил его в отношении Ганина и Есенина в связи с их смертью, а в отношении Клычкова и Орешина — за давностью. Это решение на следующий день утвердил Генрих Ягода.
Эта история не ограничилась уголовным делом.
11 декабря 1923 года, вечером, в Доме печати, слушалось «дело четырех поэтов». Судьями были Керженцев, Касаткин, Нарбут, Аросев, Николай Иванов, Плетнев. Обвинителем — критик Сосновский. Защитниками — Абрам Эфрос, Андрей Соболь и Вячеслав Полонский. Милиционер Лапин, доставивший всю компанию в отделение, сказал на суде: «Выпьют на две копейки, а скандалят на миллиард». Свидетель Юрьев (следователь ГПУ) рассказал о том, как Клычков на допросе вступил с ним в длинные объяснения по поводу «засилья жидов в литературе». Редактор журнала «Красный перец» Борис Волин рассказал о дебоше, устроенном недавно Есениным в «Стойле Пегаса». В свою защиту обвиняемым пришлось бить себя в грудь и клясться в любви к евреям. Клычков рассказал о своем заступничестве за евреев в стане белых, а Орешин заявил, что теперь, как бы ни напился, «слово «жид» у меня и клещами не вырвешь». Защита Есенина больше сводилась к его болезненному состоянию. Была представлена медицинская справка из психиатрической больницы о том, что болезненное состояние психики не позволяет ему полностью отвечать за свои поступки. Сам Есенин говорил что-то невразумительное, что подтверждало, по мнению защиты, выводы врачей. Да и не был он, в сущности, антисемитом. Дружил с евреями, в одном из писем писал, что в России его больше всех понимают еврейские девушки. Но в России в то время было явно нарушено национальное равновесие. Новая национальная политика изменяла и во многом искажала привычный русский быт. Это, конечно, не оправдывало антисемитизм и хамство, но объясняло причины многих столкновений. Смириться с новой реальностью было легко не всем, а выразить все в словах еще труднее. Потому, наверное, и вырывались из надрывной русской груди так часто антисемитские лозунги и оскорбления. Одним словом, шуму на процессе было много, прозаседали до ночи, заклеймили поэтов позором и, наверное, правильно сделали: в стране пролетарского интернационализма не место национальной розни и унижениям национального достоинства. Малые народы к таким унижениям особенно чувствительны, а борьба с антисемитизмом была к тому же одним из главнейших завоеваний революции.