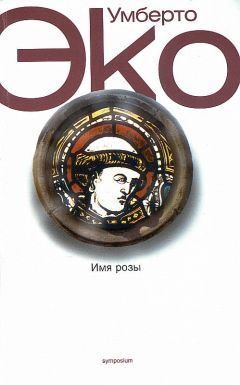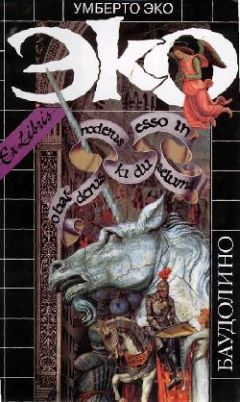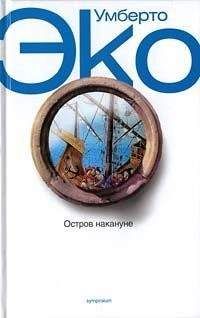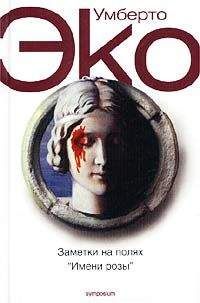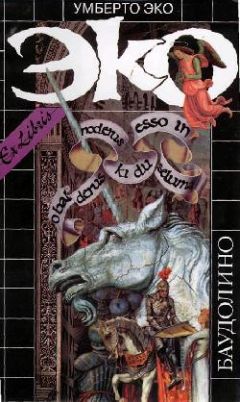Кейт Мэннинг - Мoя нечестивая жизнь
Килберт холодно смотрел на меня. Затем не моргнув глазом назначил залог:
– Десять тысяч долларов!
Я вынула из сумочки толстую пачку и показала публике:
– Это правительственные облигации на указанную сумму. В обеспечение залога.
– В качестве обеспечения может быть использовано только недвижимое имущество, – возразил Килберт.
– Ваша честь, – вступил Чарли, – наш дом на Пятьдесят второй улице стоит больше двухсот тысяч долларов.
По залу пронесся вздох изумления.
– Недвижимость, записанная на имя подсудимой или ее родственников, не годится, – сказал судья Килберт. – Вашими поручителями должны стать другие домовладельцы.
Опять те же игры, только бы упрятать меня в клетку.
– Я предоставлю обеспечение залога сегодня к шести часам вечера, – заявил муж. – А сейчас разрешите нам покинуть здание.
– Проводите обвиняемую в комнату приставов. Пусть ждет там, – распорядился судья.
Пристав отвел меня в дымный закуток, где воняло мочой и отчаянием. В этом чулане я и ждала Чарли, пока он бегал по городу, пытаясь уговорить кого-нибудь стать моим поручителем и внести залог под свою недвижимость. К шести он вернулся в суд мокрый, Моррилл еле поспевал следом.
– Не получилось! – сказал Чарли. – Люди боятся….
– Они боятся? Это моя голова на плахе!
Хорошая новость, по мнению Моррилла, заключалась в том, что Килберт на самом деле человек куда более благожелательный, чем могло показаться. Посмотрим.
Но сегодня мы уже ничего не успевали. Судья отправился домой, а пристав передал меня надзирательнице в грязном платье. Мне снова предстояло провести ночь в тюрьме.
Чарли взял меня за руку. Тюремщица позволила нам обняться. Я не смотрела в его глаза. Не хотела видеть бессильную ярость и отчаяние. Надзирательница вывела меня, усадила на тележку, и я запела «Фляжку виски»:
Глоточек за папашу, еще остался виски во фляжке…
Распевая, я тряслась по булыжному двору, и колеса моей повозки грохотали точно так же, как грохотали они отчаянным фениям[102], что когда-то прибыли к этим берегам, надеясь назвать клочок земли своей собственностью.
Встреча с миссис Мэтлби, главной надзирательницей, не вызвала у меня большой радости, хотя та и приветствовала меня широченной улыбкой, больше напоминающей оскал акулы. Меня отвели в камеру. Едва я улеглась на свою жесткую койку, как в матрасе что-то протестующе зашуршало. Пришлось устроиться на полу, подложив под голову сумочку; в ту ночь из-за холода я и на минуту не сомкнула глаз. Все было за то, что я сгнию в Томбс, пока адвокаты до бесконечности бормочут свои res ipsa loquitur и habeas corpus[103]. Для меня это было все равно что по-китайски. Но я слишком хорошо понимала, что на этот раз они собирались разорить меня и довести до банкротства, каковыми подвигами и славился Комсток. Он бы взял и мою жизнь, если бы мог. Но Чарли и Моррилл отыскали-таки пару человек, которые поручились за меня своей собственностью. Им было совершенно без надобности связывать свои имена с моей нечестивой особой, потому в бумагах их обозначили как анонимов. Эти безымянные были для меня все равно святые, и, согласно предсказаниям Моррилла, Килберт отпустил меня под залог. Наконец-то мне попался судья, который был на моей стороне. Меня освободили.
– Мадам! – накинулись на меня репортеры, когда я покинула здание суда. – Пару слов о сегодняшнем разбирательстве!
– Эти мелкие законники, – ответила я, – рой навозных мух.
Оказавшись дома, я первым делом поспешила к сестре. Очень бледная, она сидела в кресле, сквозь тонкую белую кожу на висках просвечивали ниточки вен.
– Датчи! – Я опустилась перед ней на колени. – Как же я рада, что ты здесь. Я так волновалась, когда ты убежала.
– А куда мне бежать? Я здесь в ловушке.
– Прости, Датчи. Я знать не знала, что на меня готовится налет. Они не имеют права устраивать такие погромы.
– Как ты могла выставить меня на такой позор? – прошептала она.
– Это я выставлена на позор, а не ты.
– Я сообщила свое имя. Полиция его знает. И зачем я это сделала? Зачем? Если бы я только не назвалась! – Она замотала головой.
– Здесь ты в безопасности.
– В безопасности?! Вот уж нет. У этого дома дурная слава. За ним следят. Газета сегодня утром назвала его входом в ад.
– И ты тоже считаешь, что это вход в ад?
Она закрыла глаза руками и покачала головой:
– Нет… нет.
– Вот и живи тут, здесь твоя семья.
– Как ты не понимаешь. Газеты пишут, что обвинитель собирается вызвать в суд в качестве свидетельницы некую леди, находившуюся в медицинском кабинете во время ареста. Пройдет немного времени, и они обнародуют мою фамилию! А если я подтвержу… Они меня смешают с грязью.
– Они понятия не имеют, где ты.
– Они найдут меня! И все станет известно моему мужу. И маме.
– Старая карга, которую ты называешь своей мамой, ничего не узнает, если ты мне поможешь.
Сестра испустила тяжкий вздох и провела рукой по животу.
– Лили, – сказала я мягко, – скажи мне, что ты решила, когда в тот день пришла в кабинет? Ты говорила, что не можешь пройти через это. Через что? Что ты имела в виду? Ты принимала таблетки?
– Не спрашивай меня об этом. Не спрашивай.
– Так время подошло.
Из ее молчания я заключила, что сестра решила выносить ребенка и родить в моем доме. Я посчитала – итак, в следующем октябре я стану тетей. Это было мое тайное грешное желание, для сестры – боль.
– Это мне наказание, – сказала Датч. – Испытание. Теперь я это понимаю. И я должна выдержать его.
Мое испытание и ее испытание стремительно приближались. Мое должно было случиться первого апреля, а ее муж Элиот вернется двадцать первого апреля. Положение сестры давило на меня тяжким грузом. Если она станет свидетелем обвинения, то ее показания будут против меня. А если я окажусь в тюрьме, кто примет у нее ребенка? Элиот прибудет в Нью-Йорк уже через шесть недель, и оставшиеся дни протекут в допросах и ожидании. Все одно к одному.
В среду, одиннадцатого марта, на наше крыльцо прилетела сорока и раскричалась.
– Мама говорила, что сорока – это знак скорой смерти, – припомнила я с испугом.
– К нам и прежде сороки прилетали, – ответил Чарли с напускной безмятежностью. – И все живы.
Слова его не убедили и в малой доле. Он пытался развеселить меня в своей привычной манере – добывая монеты у меня за ухом, находя розы под подушкой, но все эти фокусы не разогнали моей тоски. По жалости в его глазах, по его смущению, по тому, как он сжимал свои крепкие челюсти, я угадала правду: он уже поставил на мне крест, смирился с тем, что я проклята.
В пятницу, тринадцатого, Чарли положил на кровать ботинки.
– Сколько раз я тебе говорила, что это к несчастью! – крикнула я.
Он усмехнулся, и я резко вскочила. Стул упал ножками вверх, что тоже было не к добру.
– Господи, это же все вздор! – заорал Чарли. – Все эти твои стулья, сороки, тринадцатые числа. Вся эта ахинея!
– Это похуже будет, чем ежели во время ужина погаснет лампа, – убито сказала я.
– Боже, в твоем ирландском мракобесии нет и капли разума. И логики.
– Комстока не убедят ни твой разум, ни твоя логика. Он святоша. С ним Бог! Его Бог и отправит меня в тюрьму.
– Если Бог существует, то он не допустит, чтобы ты попала в тюрьму. И мы не допустим.
– Как? Убьете меня?
– Не обязательно. Но за ценой не постоим.
– Может, мне просто сбежать? Сяду на корабль и уплыву в Калифорнию.
– В Калифорнию?
– Ну да. Поедем! Все вместе. Или в Чикаго. Или в Бостон. Никто нас не найдет, никто не узнает. Отправимся в путь затемно, возьмем только то, что можем унести. Я скорее убью себя, чем вернусь в тюрьму.
На лице Чарли возникла озадаченная улыбка.
– Бежать? Это так на тебя непохоже.
– Я оставлю записку.
– И что в ней будет написано?
– Что я решила свести счеты с жизнью, спрыгнуть с моста.
– Но вместо моста ты отправишься в Париж.
– А через некоторое время вы и Белль ко мне присоединитесь.
Чарли уже улыбался вовсю.
– Некоторое время – это сколько? Полгода?
– Полгода, думаю, будет достаточно.
Наш нелепый план походил на ребячество. Словно игра такая.
– Но кто в это поверит? – обреченно произнесла я. – Они начнут охоту на нас. Будем вечно жить в бегах.
– Париж. Неплохо. Или предпочитаешь Лондон?
– Ты не приедешь. Отошлешь меня, освободишься. Я отправлюсь за океан, а ты пополнишь ряды скорбящих вдовцов. Я так и слышу, как ты причитаешь, Чарли. «Боже, как же без нее жить, Боже, я этого не вынесу». Бедный-бедный вдовец Джонс. Будешь бродить по берегу реки, изображая, что ищешь мое тело. Самоубийство – смертный грех, душа миссис Джонс не обретет покоя и так далее. Такая грустная история. А сам тем временем приберешь к рукам все банковские счета, дом и конюшни со своими любимыми лошадьми. Затем найдешь себе прехорошенькую профурсетку, чтобы воспитывала нашу дочь, бедненькую сиротку. Разумеется, за тобой будут бегать все бабы с Пятой авеню. За тобой и за твоими деньгами. Ведь для всех я умру. Но где же я буду на самом деле? Все равно что в могиле! Буду торчать на чужбине, не решаясь вернуться домой, где меня сразу закуют в кандалы.