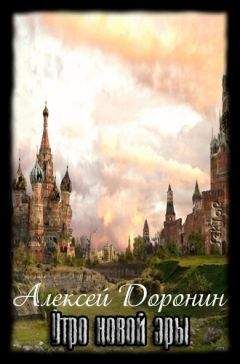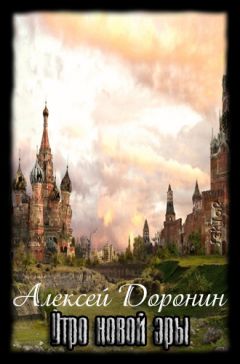Александр Доронин - Тени колоколов
Тикшай не столько своего командира слушал, сколько думал о своей судьбе. Днем они с Промзой Кремль сторожат, ночью мерзнут в казарме. «Осчастливила» их жизнь… Не обрадовала его и встреча с боярыней Морозовой. А встретились они так. Однажды он стоял на посту у Спасских ворот, пропускал в Кремль бояр. Государь крестины собрал — царица родила ему сынка, как тут гостей не пригласить. Вначале кибитку Якова Кудентовича Черкасского пропустили, затем — Никиты Ивановича Романова. На всю страну известные вельможи, да и их пришлось остановить. Стрельцам строго-настрого было приказано: каждого входящего в Кремль надо досмотреть. Ну, Тикшай остановил медвежьим пологом затянутую кибитку на полозьях — там сидел не сам Борис Иванович, правая царская рука, а Федосья Прокопьевна, его невестка. «Это ты, Тикшай-Тихон?» — от неожиданной встречи вскрикнула боярыня. И уже хотела выйти. Но Тикшай ей: «Ошиблась, боярыня, не за того меня приняла!» — хлопнув дверью, сразу в сторону отошел. Когда кони, зацокав копытами по булыжнику, заспешили через ворота, Тикшай посмотрел вслед. В заднее окно кибитки он увидел пристальный взгляд Федосьи Прокопьевны. Шесть лет прошло — не забыла его, узнала. После ухода на войну Тикшай в Приречье ни разу не был. Незачем. Дед Леонтий, морозовский кучер, давно в могиле, да и боярыня, видимо, после него десятки «женихов» сменила. Они, женки стариков-бояр, любят играть с молодыми парнями. Хватит, однажды он уже попадал в руки князя Львова. Слышал он, и Алексей Иванович давно на погосте.
Княгиня Мария Кузьминична теперь вольная, безмужняя. На днях на крыльце Казанского собора Тикшай видел ее — грузная, с двумя подбородками, от удушья еле дышит. С Богом ее… От невеселых дум Инжеватов даже и не заметил, как выехали на широкую поляну. Солнце уже поднялось, рассеяло утренний туманец. На лесном просторе белый снег резал глаза.
— Где берлога? — обратился Стрешнев к незнакомому Тикшаю стрельцу, который вытаскивал из саней широкие самодельные лыжи.
— Вон под тем деревом, — парень показал на сосну, стоявшую у крутого обнаженного оврага.
Стрешнев привязал лошадь к низенькой березке, перед ней бросил охапку сена и вытащил из саней два мушкета. Один отдал Тикшаю, а второй сам взял.
Посмотрел через дуло — оно сверкало белым кольцом. Очень хорошо ружье вычищено. Сунул в него пахнувший селитрой патрон, поднял мушкет на плечи и, скрипя лыжами, двинулся первым. Парни еле поспевали за ним. Снег скрипел как сухой песок, около них, лая, бежала собачка — кренделем хвост.
Подъехав к сосне, сразу же увидели бугорок — снегом запорошенную кучу хвороста.
Заметив поднимающийся из-под снега парок, Матвей Иванович сразу же дернул курок. Глазами вцепился в бугорок, насторожился.
Почуяв запах зверя, собачка попятилась, начала лапами рыть снег. Хвост ее дрожал, шерсть на загривке поднялась.
— Что, испугалась, лопоухая? — Стрешнев, видать, так успокаивал не столько собачку, сколько себя. — У-у-уходи отсюда! — сам шага два сделал вперед и окаменело остановился.
С макушки сосны упал комок снега. Воевода, вздрогнув, снова отступил. Сердце его так стучало — словно версту пробежал.
Берлога величиной с добрый погреб. Снег на ее склонах затвердел плотным настом, над отверстием плыл легкий сизый туманец.
Собачка ещё хлеще залаяла, не остановить ее.
— Откуда такую бестолковую нашел? — Матвей Иванович зло посмотрел на стрельца.
— Молода она, охоте ещё не обучена, — ответил тот спокойно, словно на крыльце своего дома стоял, а не у медвежьей берлоги.
«Зря он время тянет, так и нас подставит», — тревожно защемило в груди у Тикшая. На косолапого он не ходил, поэтому неизвестность мучала его. Он не знал, что ему следует делать.
— Мишка безмятежно спит! — бросил стрелец. — Может, жердью его разбудим?..
— А что, неплохая мысль, — похвалил парня Стрешнев. Дрожь, бравшая его недавно, понемногу отошла, и теперь он чувствовал, как похолодели его голые пальцы, державшие мушкет.
Стрелец ушел за топором к саням, там же и жердь стал вырубать.
С макушки дерева снова упал снег. «К бурану это», — подумал Тикшай и почему-то снова вспомнил о Морозовой, увидел перед собой ее черные глаза. Теперь в своем тереме, может быть, и она думает о недавней их встрече. Эту понравившуюся ему думу сменила другая, сухой горечью наполнив сердце: «Наверняка, с другим уже играет…».
Услышав стук топора, собачка вновь залилась лаем.
— Что вы там за моей спиной приуныли? Ближе подойдите, не съем я вас, — усмехаясь, посмотрел Стрешнев на Тикшая и Промзу.
Те нехотя подошли ближе.
Из берлоги шел неприятный запах. Тикшай отвернул лицо в сторону, подумал: «Как Матвея Ивановича не тошнит?..» Вслух сказал о другом:
— Погода, смотрю, портится…
— Погода погодой, да нам медведя всё равно надо взять, — не выдержал и Промза, который до сих пор, сопя, помалкивал. И зло выругался о незнакомом стрельце: — Он что, в руки ни разу не брал топор — до обеда будет одну жердь рубить?..
Мушкеты держали перед собой, дула смотрели прямо в дыру логова.
— Ики-ики, ики-ики! — закричала над головами откуда-то появившаяся птица.
— И коршун нас увидел, — засмеялся Тикшай. — Мясо почуял.
Топор замолчал. Стрелец сейчас принесет жердь, и они медведя поднимут. Думая об этом, Тикшай поднял голову и…
Из-под кучи такой рев раздался — словно небо ударилось о землю. Из берлоги высунулась с доброе решето медвежья морда. Взлохмаченная голова, во всю ширь разинутая пасть с торчавшими клыками. Матвей Иванович нажал курок мушкета — тот не выстрелил, дал осечку. Тогда он во весь голос заорал:
— Что стоишь, стре-ляй!..
Сам дрожащими руками стал заталкивать в мушкет новый патрон.
Тикшай застывшим столбом стоял перед медведем, словно не понимая, что кричал воевода. Наконец опомнился, нажал на курок, из дула вылетел столб огня. Медведь, завертевшись на одном месте, грозно заревел и повалился на собачку, которая кинулась к нему, видать, хотела защитить своих хозяев.
Тикшай не удержался от удара мушкета в плечо, также рухнул в снег. Мягче пуха он был, этот белый нетронутый снег. Такими бывают лишь перины боярынь…
* * *Первая размолвка Патриарха с Государем произошла от той вести, которую ему передал Епифаний Славенецкий. Весть же иерея была такова: Семен Лукич Сабуров, царицын окольничий, научил свою собачку изображать Патриарха, как он крестится. Произошло бы это скрытно — Никон бы плюнул, да князь, говорят, свою псину при людях заставлял эту пакость проделывать. Так, мол, наш Патриарх Богу честь отдает. Увидел это Епифаний своими глазами — и сразу же в Новый Иерусалим, где в последние месяцы Никон находился. Тот, рассвирепев, оставил строительство и помчался к Государю.
— Что, Семен Лукич с ума сошел? — от услышанного остолбенел Алексей Михайлович. — Я таких псов ему покажу — на карачках передо мной будет ползать. Завтра же, святейший, расскажу тебе, как накажу его!
День проходит, четвертый… Ни слуха от царя, ни духа… Никон даже на берег Истры не поехал, всё ждал. Затем передали ему, что царь на коломенских лугах на перепелов охотится.
Свои люди в ухо Никона и раньше шептали: мол, Алексей Михайлович давно на него держит зуб. А за что — неизвестно. Патриарх и сам видел, что за последние два года Романов встречал его холодно, даже против него порой шел. Это Никон отчетливо понял, когда на строительство Нового Иерусалима тот ему денег не выделил. Пришлось самому прийти к царю. Тот, как и прежде, выслушал его с хмурым лицом и сказал:
— Война идет, владыка («святейшим» его не назвал), стрельцов нечем кормить, а ты для собственного удовольствия монастырь поднимаешь.
— В твой карман я, Государь, руку не сую, — в ответ сказал он. — Я прошу лишь десятую долю того, что отдал Стрелецкому приказу из церковной казны.
— Деньги не у меня хранятся, а в приказах. Иди там проси, возможно, сколь-нибудь выделят, — скривив губы, бросил царь.
Пришлось из монастырского сундука последние рубли вынуть — стройку Нового Иерусалима на полпути не остановишь.
Никон ночами искал причины разлада с Романовым и, не находя их, всё думал, как выйти из создавшегося положения. Почему его, святого Патриарха, окольничий так позорит? Что он, ниже его? Затем, того и жди, ещё больше будет насмехаться. Хва-тит! Вначале Аввакума с Морозовой на него, как псов, натравили, а теперь вот в боярских теремах смеются. И Никон задумался.
К вечерне на третий день Пасхи звонил Иван-колокол Успенского собора. Тревожно и долго. Словно призывал на пожар. В собор со своими домочадцами поспешил и Алексей Михайлович. Словно сердцем чувствовал: не к добру всё это… Откуда радость придет, если он со святейшим раздружился. Такие беды бывали лишь при Иване Грозном.