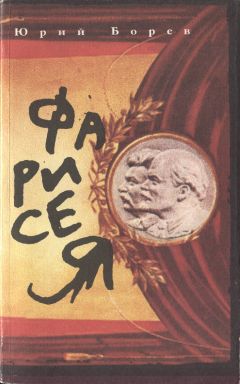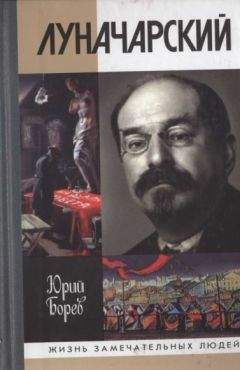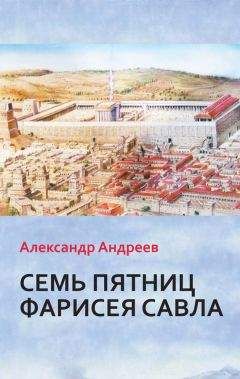Дмитрий Мережковский - Александр Первый
Дa, умереть с достоинством – последний долг… А вы и в бессмертье души, Голицын, верите?
– Верю.
– Я понимаю, что можно верить, но как желать бессмертия, не понимаю, – продолжал Пестель: – так устаешь от жизни, что, кажется, мало вечности, чтобы отдохнуть. Это как ночлег, о котором думаешь, когда трясешься на почтовой телеге в знойный день: на простыни свежие лечь, протянуться, вздохнуть и уснуть…
Полузакрыл глаза, облокотился на стол, опустил голову и сжал ее обеими руками.
– Что я хотел? Погодите-ка, что-то важное, да вот забыл, все забываю. Должно быть, от жара мысли мешаются… Я двадцать лет молчал, и вдруг заговорил. Я с вами говорю, Голицын, потому что вы слушать умеете. Слушать трудно, труднее, чем говорить, а вы умеете. Когда вы так в очки смотрите, то похожи на доктора или на доброго лютеранского пастора. Я ведь лютеранин. У меня был один учитель в Дрездене, господин фон Зейдель, добрый старый немец, гернгутер, большой мистик. Тоже в очках, немного на вас похож. Читал Апокалипсис и говорил, что понимает все до точности. И Лютеров псалом пел: Eine feste Burg ist unser Gott.[88] Так хорошо пел, что нельзя было слушать без слез… А знаете, Голицын, когда жар, и сидишь долго один, уставившись глазами в темный угол, то все кажется, что там кто-то. Видишь, что нет никого, а кажется… Вот и теперь. Думаете, брежу? Нет… только не надо в угол смотреть… А вон там у меня, на столе, портрет: это Софи, сестра моя. Красавица, не правда ли?.. Я вам говорил, что никого не люблю. А ее люблю. Но ведь это не та любовь. Христос говорит: «кто матерь Моя, кто братья Мои?» А кстати, Голицын, или некстати, ну, да все равно, вы ведь в Тульчине с Луниным виделись?..
– Виделся.
– Рассказывал он вам, как умирающий отец его явился к нему в самую минуту смерти? Какой-то магнетизм, что ли? А может быть и шарлатанство. Лунин верит насильно, сломал себя, чтобы верить, а все-таки не очень верит… Больные в жару видят то, чего нет. А по Канту, и здоровые: весь мир – то, чего нет, привидение… А хотел бы я увидеть хоть маленькое привиденьице. Если очень, очень желать, то, может быть, и увидишь… Э, черт, все не о том… А не знаете ли, Голицын, что раньше написано: «Политика» или «Метафизика» Аристотеля? Кажется, надо бы раньше «Метафизику». Eine feste Burg ist unser Gott. У св. Августина политика – Град Божий. А у меня – Град без Бога. По «Русской Правде» попы – те же чиновники. А ведь этого, пожалуй, мало?… Я хоть и немец и лютеранин, а люблю православную службу и ладан и пение. Когда по Киевской лавре хожу, все монахам завидую. О, beata solitudo, о, sola beatitude![89] После революции в лавру уйду и сделаюсь схимником. Кроме шуток, этим кончу… Только все не о том, все не о том…
Остановился, потер лоб рукою, улыбнулся, поморщился детски-беспомощно, так же как давеча, когда глотал хину.
– Вам бы лечь, Пестель, вы больны, – сказал Голицын.
– Ничего, маленький жар. От этого мысли яснее, хотя и мешаются. Хотите чаю?.. Ах, да, наконец-то, вспомнил! Вы «Катехизис» Муравьева знаете?
– Знаю.
– Странно. Муравьев думает, что мы против царя со Христом, а царь думает, что он против нас со Христом. С кем же Христос? Или ни с кем? «Царство Мое не от мира сего». А как же Град Божий? Тут что-то неладно. Уж не лучше ли просто по-моему: попы – чиновники, политика – Град человеческий – и дело с концом? Муравьев, кажется, хочет свой «Катехизис» в народ пускать, все о народе хлопочет, о малых сих. А народ ничего не поймет. Да и что такое народ? Я полагаю, что он всегда будет тем, что хотят личности. Вы скажете: плохая демокрация? Да, об этом говорить вслух не надо… А что вы думаете, Голицын, Муравьев может убить?
– Думаю, может.
– Удивительно! Любит всех, любит врагов своих, кажется, мухи не обидит, а вот может убить. Убьет, любя. Наполеон говорил: «Такому человеку, как я, плевать на жизнь миллиона людей». Это понятно и просто, слишком просто, почти глупо. Говорят, что я в Наполеоны лезу. Но я бы так не сказал, а если б и сказал, не гордился бы этим. Но это понятно. А убивать, любя? Погубить душу свою, чтобы спасти ее, – так что ли?.. Вы по-немецки читаете?
– Читаю. Но, Пестель, зачем вы?..
– Нет, нет, слушайте.
Он открыл лежавшую на столе большую, в кожаном переплете с медными застежками, ветхую Лготерову Библию.
– Я теперь все Библию читаю – Шекспира и Библию. Говорят, кто Библию прочтет, с ума сойдет. Может быть, я от того и схожу с ума. Слушайте: «Можешь ли удою вытащить Левиафана? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсти его? Крепкие щиты его – великолепие; на шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Нет на земле подобного ему. Он царь над всеми сынами гордости». – Левиафан был в Наполеоне, когда он говорил: «Мне плевать на жизнь миллиона людей». И в свинье, которая отъела девочке голову. И это верх путей Божьих? Да, можно с ума сойти! Английский философ Гоббс назвал государство свое Левиафаном, а св. Августин – Градом Божиим. А мой учитель, господин фон Зейдель, полагал, что Левиафан есть Зверь Апокалипсиса. Не разберешь, где Бог, где Зверь. Все спутано, все смешано… Это и значит – убивать с Богом, убивать, любя… Так что ли?
– Нет, Пестель, не так. Зачем вы смеетесь? Ну, зачем, зачем вы мучаете себя?
– Я не смеюсь, Голицын, я только мучаюсь, или кто-то мучает меня, убивает, любя… Должно быть, я не понимаю тут чего-то главного… Муравьев однажды сказал обо мне: «есть вещи, которые можно понять лишь сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого проницательного ума». Я ничего не понимаю сердцем, я сердцем глуп. А вот у Муравьева сердце умное. Я мог бы его полюбить. Скажите ему это, когда увидите его. А ведь он не любит меня?..
– Не любит, потому что не знает, – возразил Голицын.
– А вы знаете?
– Знаю. Теперь знаю.
Голицын улыбнулся. Пестель – тоже, и от этой улыбки лицо его вдруг помолодело, похорошело, как будто мертвая маска упала с живого лица, и он сделался похож на портрет шестнадцатилетней девочки, который стоял на столе.
– Вы сами себя не знаете, Пестель, – продолжал Голицын: – вы с Муравьевым очень не похожи и очень похожи.
– И я мог бы убить, любя?
– Нет, не могли бы. Вы не другого, а себя убиваете. Но это все равно. Вы тоже губите, уже почти погубили душу свою, чтобы спасти ее… Слушайте.
Голицын взял Библию, открыл Евангелие от Иоанна и прочел:
– «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но возрадуется сердце ваше»…
Пестель молчал и улыбался, но лицо его побледнело так, что Голицын боялся, что ему сделается дурно.
– Ну, а теперь давайте спать, Павел Иванович! Мне завтра ехать рано.
Голицын позвал денщика и велел подавать лошадей на рассвете.
– Куда вы едете? – спросил Пестель.
– В Лещинский лагерь под Житомиром. Там сбор Васильковской Управы и Общества Соединенных Славян.
– Зачем сбор?
– Решать, когда начинать.
– И вы думаете, начнут?
– Думаю.
– Как дважды два пять? – усмехнулся Пестель.
– Не знаю, – возразил Голицын: – вы же сами говорите, что не надо слишком много думать, чтобы сделать.
– А если начнут, хотите быть вместе? – спросил Пестель.
– Хочу, – ответил Голицын.
– Скажите же им: пусть только начнут, а мы от них не отстанем, – сказал Пестель. – А из Лещинского лагеря приезжайте ко мне; мне хотелось бы еще увидеться с вами.
– Постараюсь.
– Нет, обещайте.
– Хорошо, Пестель, даю вам слово.
– Ну, спасибо, за все спасибо! Доброй ночи, Голицын!
Хозяин лег на диван в кабинете, а гостю уступил свою постель. Как ни спорил тот, ни доказывал, что Пестелю, больному, нужнее покой, он настоял на своем.
В спальне на стене висела золотая шпага, полученная им за храбрость под Бородиным. Тут же стоял кованый сундук с большим замком. Голицыну казалось, что в этом сундуке – «Русская Правда». Над изголовьем постели – распятие и другой маленький портрет Софии; здесь она была моложе, лет 12-ти; детское личико с пухлыми, как будто надутыми, губками, с большими черными, немного навыкате, как у Пестеля, глазами и с недетски тяжелым взором. Под портретом подпись по-французски, ученическим почерком: «Моему дорогому Павлу. – Село Васильевское, 13 июля 1819 года». На ночном столике – славянское Евангелие, тоже с надписью, подарок отца. Между страницами – сухие цветы, а на пожелтевшем от времени предзаглавном листе написано рукою Пестеля: «Сегодня, в день моего рождения, 2 мая 1824 года, Софи подарила мне крестик, а матушка – кольцо на память. Я с этими вещами никогда не расстанусь, и они будут со мною до последнего дыханья моего, как самое драгоценное, что я имею».
Из спальни была одна только дверь в кабинет. В пять часов утра денщик Савенко вошел к Голицыну босыми ногами, на цыпочках, принес ему стакан чаю, разбудил, тихонько тронув за плечо, доложил шепотом, что лошади поданы, и пока Голицын одевался, сообщил, что «их благородие, г. подполковник, разбудить себя велели, чтобы проститься с князем, да жаль: первую ночь изволят почивать хорошо»; сообщил также свои опасения о шпионах – «шпигонах» и о капитане Майбороде. Видно было, что он любит, жалеет барина.