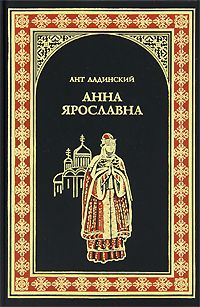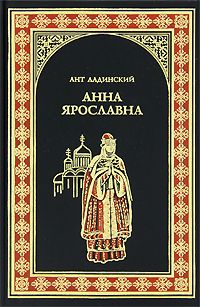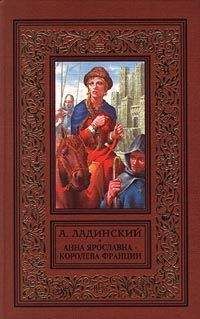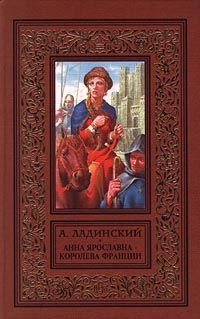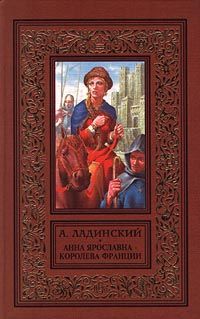Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
В то время как адвокат был занят своей сатирической работой, в его глаза с освещенного солнцем горного рубежа, разделявшего две любящие души, нередко стекало нечто, выглядевшее, как слеза; но он лишь отодвигался немного в сторону, чтобы избегнуть вопроса Ленетты; ибо он по опыту знал, что расспросы о причине его слез неизбежно заставят его вспылить, а вспылить он не хотел. Разве не был он сегодня воплощенной нежностью, и разве не облекал он ради своей жены весь свой комизм в форму серьезнейших меццо-тинто, ибо наслаждался произрастанием и цветением ее счастья, которое сам же посеял? — Правда, она не догадывалась, что он кротко щадит ее чувства; но своей изысканной предупредительностью он был так же доволен, как прежде своими изысканными ироническими выпадами против жены, понятными лишь для него самого, но не для нее.
Наконец, исполненные теплоты, они покинули просторную комнату, когда солнце всю ее разукрасило пурпуром; выходя из стрелкового здания, он еще пригласил Ленетту полюбоваться золотыми бликами, струившимися по длинным стеклянным крышам двух оранжерей, а сам он уцепился за солнце, уже разделенное на две части горами, и хотел с ним уйти за далекий горизонт, к своему другу. Ах, как сильно мы любим тех, кто отделен от нас далью пространства или времени, или даже сугубой далью над землей! — Итак, вечер сам по себе мог бы завершиться превосходно; но помешало нечто непредвиденное.
Дело в том, что какой-то находчивый злой дух взял тайного Блэза и отправил его прогуливаться под открытым небом, с таким расчетом, чтобы именно в этот непорочный праздник прекрасных душ адвокат вдруг с ним встретился на дистанции, на которой принято обмениваться салютами, шапочными или огнестрельными. На приветствие опекуна, выполненное по всем правилам, хотя и с такой усмешкой, которая, к счастью, никогда не может появиться на детском личике, Зибенкэз ответил вежливо, тем, что стал дергать и поворачивать свою шляпу, не снимая ее. Ленетта сразу же попыталась возместить несостоявшееся поднятие шляпы сугубо низким опусканием собственной особы в глубоком реверансе; но едва она огляделась, как устроила супругу небольшую семейную и келейную сцену за то, что он умышленно злит опекуна все больше и больше. «Право, милая, я не мог поступить иначе, — сказал он, — я действовал без злого умысла, в особенности сегодня».
Но вот в чем было дело: еще за несколько времени до того Зибенкэз сказал жене, что его фетровая шляпа уже давно страдает от беспрерывного снимания, неизбежного в столь захолустном местечке, и что единственной возможной защитой и броней для нее он считает жесткий зеленый чехол из вощеной тафты, в который он ее намерен заключить, чтобы ее, упакованную внутрь этого шишака и капюшона, можно было без малейшего износа повседневно применять для акта взаимной вежливости, обязательного для людей, встречающихся под открытым небом. Затем, надев эту двойную шляпу или шляпу шляпы, он прежде всего отправился к одному торговцу колониальными товарами, у которого выпустил на пастбище тонкую нижнюю шляпу и заложил ее за шесть фунтов кофе, ибо оно согревало его четыре мозговых желудочка лучше, чем валяная заячья шерсть. Оставив на голове лишь вспомогательную шляпу, он спокойно и никем не расшифрованный вернулся домой — и теперь носил пустой футляр по самым извилистым улицам, втайне радуясь тому, что, можно сказать, ни перед кем не снимает настоящей шляпы и не ходит chapeau bas, а если в дальнейшем захочет позабавиться еще и другими шутками, то дело в шляпе.
Конечно, в тех случаях, когда он забывал — что сегодня было особенно простительно — придать подкладке шляпы необходимую искусственную жесткость посредством стропил, то для приветствий ему было слишком трудно и нудно стаскивать эту подкладку, и он мог лишь прикасаться к ней самым любезным жестом, как это делают высшие офицерские чины: но так он невольно должен был прослыть грубияном.
И как раз сегодня он тоже вынужден был казаться таковым и никоим образом не мог снимать для приветствия конверт своей головы, этого послания, полного любви ко всем гуляющим.
Но гулянию суждено было повлечь за собою не только эти злоключения, ибо один из вышеупомянутых находчивых злых духов снова передвинул декорации и притом настолько поспешно, что мы теперь уже видим нечто совершенно иное. Дело в том, что впереди обоих супругов шествовал один католик-портной, нарядившийся, подобно всем своим собратиям по профессии и процессии, чтобы праздновать Непорочное зачатие. К несчастью, когда портной проходил по узкой тропинке, то — потому ли, что желал уберечься от грязи, или же под влиянием праздничного веселья — задрал фалды своего сюртука так высоко, что внизу ясно был виден конец или крестец вшитой спинки его жилета, то есть задний план жилета, который, как и на картине, обычно расписывают менее пестрыми красками, чем яркий передний план или фасад.
«Эй, мастер, — воскликнула запальчиво Ленетта, — как это у тебя сзади очутился мой ситчик?»
Действительно, из аугспургского зеленого ситчика, из которого она, немедленно после того как сделалась стрелковой королевой, заказала себе хорошенький лиф или корсаж у этого портного, последний оставил и удержал для себя на пробу столько, сколько он, применительно к бесплатным пробам вина, считал нужным и христиански справедливым. Этой малой пробы еле хватило на весьма тусклый фон для его ярко-зеленого жилета, для которого он выбрал столь темную изнанку лишь в надежде на то, что она останется невидимой, подобно изнанке ландкарты. — Но так как теперь мастер продолжал преспокойно прогуливаться с обращенной к его спине интерпелляцией Ленетты, словно его это вовсе не касалось, то огонек в ней разгорелся в пламя, и она закричала вдогонку, невзирая на все знаки и шопот Зибенкэза: «Это мой собственный аугспургский ситец, слышишь ты, воришка-портной? И ты его украл, вот оно что!» — Лишь после этого профессиональный похититель ситца хладнокровно обернулся и произнес: «Сначала докажи-ка мне это, а пока и без ситца нечего беситься, я тебя еще пощупаю перед цеховым советом, если только в Кушнаппеле есть начальство и порядок».
Тут она разгорелась целым костром, — мольбы и приказания адвоката были только ветром, раздувавшим огонь. — «Ах, ты, грабитель, отдай мне мое добро, мошенник» — восклицала она. В ответ на эти упреки мастер лишь приподнял фалды обеими руками необычайно высоко над индоссированным жилетом и, слегка нагнувшись, заявил «Вот!», а затем продолжал медленно шагать перед нею, оставаясь на том же фокусном расстоянии, чтобы подольше наслаждаться ее жаром.
На этом столь пышном празднестве бедный Зибенкэз, который никакими юридическими и теологическими заклинаниями не мог изгнать беса раздора, заслуживал наибольшего сожаления; как вдруг, на его счастье, сбоку из ложбины появился его ангел-хранитель, прогуливавшийся Штиблет. Для Ленетты сразу же перестали существовать портной — кусок ситца, длиною в четверть локтя — яблоко раздора и демон раздора; подобно лазури вечернего неба и румянцу вечерней зари, лазурь ее глаз и румянец щек спокойно и бестрепетно цвели перед советником. В эту минуту целый десяток локтей ситца и впридачу полдесятка портных, укравших его себе на жилеты, были бы для нее пустяком, не стоящим внимания и даже ломаного гроша. И Зибенкэз тотчас же увидел, что Штибель, подобный ходячей Масличной горе, приближался к ней, сплошь обсаженный масличными ветвями мира, впрочем, оказавшимися кстати и для демона раздора, ибо из маслин ему легко было выжать масло для подливания в огонь супружеского междоусобия, тогда как Штибель был вызван с пожарным ведром именно для тушения этого огня. Если уже на открытом воздухе Ленетта была нежным белым мотыльком или бабочкой, тихо летящей и порхающей над цветущими склонами Штиблета, то в собственной комнате, куда ее сопровождал советник, она буквально превратилась в греческую Психею, и, как я ни пристрастен к Ленетте, я все же вынужден здесь запротоколировать, — иначе мне не поверят во всем остальном, — что в этот вечер она, увы, казалась лишь крылатой душой, освободившейся от навязанной ей обузы тела и вознесшейся на прозрачных крыльях, — душой, которая прежде, когда она еще была облечена в плоть, состояла с советником в любовной переписке, но теперь парила вокруг него на простертых крылах, овевала его шелестящим оперением и, наконец, устав от полета, опустилась в поисках телесного насеста и — поскольку под рукой не случилось другого женского тела — со сложенными крылышками впорхнула в тело Ленетты. Такою казалась Ленетта. Но почему она сегодня была такою? — По этому поводу много неведения и радости было у Штибеля, но мало того и другого у Фирмиана. Прежде чем говорить об этом, я не могу не пожалеть тебя, бедный муж, и тебя, бедная жена! Почему плавный поток вашей (и нашей) жизни постоянно прерывается горестями или прегрешениями, и почему он вынужден, подобно Днепру, пройти через тринадцать порогов, прежде чем исчезнуть в Черном море могилы? Но если Ленетта именно сегодня почти не скрывала за монастырской оградой груди свое сердце, полное нежности к советнику, то причина была в том, что сегодня она чувствовала свое горе, свою бедность: Штибель был полон положительных даров, а Фирмиан — лишь искаженных (то есть талантов). Мне достоверно известно, что своего Зибенкэза, которого она до брака любила холодной любовью супруги, она в браке полюбила бы, словно невеста, если бы он имел кусок хлеба. Как часто невеста воображает, будто любит своего жениха, тогда как лишь в браке эта шутка — в силу веских металлических и физиологических причин — превращается в нечто серьезное. Если бы комната и кухня адвоката были, словно полная чаша, полны доходами и двенадцатью геркулесовскими домашними работами, то Ленетта осталась бы достаточно верной ему, хотя бы вокруг нее увивался целый ученый кружок Штиблетов — ибо она ежечасно говорила бы себе с холодной расчетливостью: «Я уже имею то, что мне нужно» — но теперь, в такой пустой комнате и кухне, женское сердце слишком переполнилось; одним словом, тут не получается ничего хорошего. Ибо женская душа представляет собою прекрасную фреску, нарисованную на комнатах, столах, платьях, подносах и на всем хозяйстве, а потому все трещины и прорехи хозяйства становятся ее собственными. Женщина имеет много добродетели, но не много добродетелей; она нуждается в тесном окружении и в установленной форме мещанской жизни, — без такого опорного колышка эти чистые белые цветы начинают стлаться по грязи клумбы. Мужчина может быть космополитом и, если ему нечего больше заключить в свои объятия, может прижать к своей груди целый земной шар, хотя бы ему и удалось обнять немногим большую его часть, чем та, которую составляет могильный холм; но космополитка подобна ярмарочной великанше, которая странствует по всему свету, не встречая никого, кроме зрителей, и не представляя ничего, кроме представляемой роли.