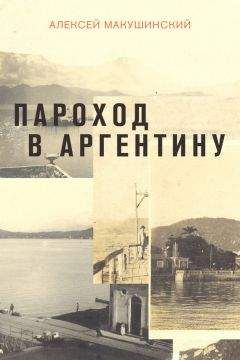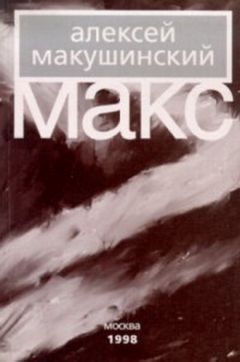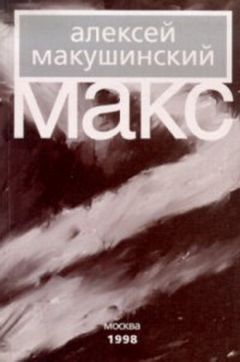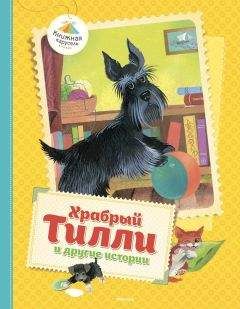Димитрий - Макушинский Алексей Анатольевич
Ничего белого в Беляеве не было; был тот же, навсегда начавшийся дождик, те же зонтики, кожаные куртки, те же мужики у табачных киосков. Прошло так много лет, сударыня (с привычной горечью пишет Димитрий); неужели все это было? А потом было всякое-разное, но и всякое-разное сплыло: всякое пронеслось, разное растворилось. Как смириться с этим непрерывным умиранием жизни? А мы с ним и не смиряемся; мы иногда лишь о нем забываем. Я все и всех готов был забыть, идучи рядом с Марией Львовной (на автобус мы не надеялись), под двумя (не одним, как вы, наверно, подумали) зонтиками, точнее — сперва под двумя зонтиками, затем уже под одним зонтиком, мадмуазель (ничто ведь так не препятствует сближению, как два раскрытых зонтика, толкающихся друг в друга: на полпути это так надоело мне, что я свой зонтик закрыл и сложил, она же немедленно отдала мне свой, тоже красный и манкий, повелев нести его над ней и самому, соответственно, укрыться под ним от дождя, — что, как вы понимаете, можно было сделать, лишь приобняв ее за после и по сравнению со Ксениной нетонкую талию) — все и всех готов был забыть я, идучи рядом с нею, помогая ей (на ее каблуках) перепрыгивать через бесчисленные безнадежные лужи, по безудержно брызжущей водою из-под колес мимолетящих машин Профсоюзной улице, понемногу отдаляясь от этой улицы, по пешеходным дорожкам между низенькими зелененькими заборчиками, через один бескрайний двор, скорее, пустырь с беззаботно горящими окнами посеревших домов, затем через другой двор, ее двор, с незабвенным катком.
Не было, разумеется, никакого катка; то есть каток, разумеется, был, но льда на нем не было, и снеговиков с ним рядом не было тоже. Был мокрый бурый гравий за железной сеткой и деревянными бортиками. Был фонарь и металлическое струение капель под фонарем. Все же какие-то мальчишки пытались гонять футбольный мячик по мокрому гравию, презрев и дождь, и даже ГКЧП. В тычку они не играли, не играли и в свайку, а мячик, какой уж был у них, пытались гонять. Так отчаянно пытались, что мячик перелетел у них через сетку прямо к моим ногам. Они мне знаки делали, давай, мол, дяденька, закинь нам мячик обратно. Я его не руками закинул, а на голкиперский манер, руками только подбросив, так поддал его сводом стопы, что он чуть не через всю площадку перелетел. Мальчишки восхищенно загикали; сама Мария Львовна произнесла иронически-неподдельное: браво! как если бы это вообще было первое, чем я сумел ее поразить (а вот не прилети этот мячик от мальчиков, как бы все повернулось?). На руках у меня оставалась ржавчина гравия; я стер ее мокрыми листьями, сорванными с трепетавшего, уже у самого подъезда, куста давным-давно отцветшей сирени.
Из чего вовсе не следует, мадмуазель, что я ожидал услышать от нее не вот в смысле нет, но вот в смысле да, когда мы стояли в затхлопластмассовом, непристойно-расписанном лифте, где опять сквозь все запахи отчетливо и мучительно пробивался запах ее горьковатых вербных духов и в тесноте кабинки все ее прелести опять оказывались от меня так мучительно близко: и перси ея, и стегна, и лядвия, проступавшие сквозь юбку и джемпер. Она и не сказала мне никакого да, но безмолвно, просто, отперев дермантинную дверь (быстренько, остренько посмотревшую на меня своим единственным, зато и самым шкодливым глазком), пропустила меня в прихожую; и даже прежде чем снять плащ, вытащила из-под волос пресловутый манкий платок, отчего лицо у нее сразу же распустилось всеми своими улыбками; и если вы станете теперь утверждать, ясновельможная пани, что ее поцелуи должны были отзываться, пардон, чебуреками, что и мои поцелуи должны были отзываться, пардон, чебуреками, то я не стану с вами спорить (зачем?), скажу лишь, что, во-первых, это нам не мешало, во-вторых, что вкус и запах того коньяка не коньяка, но тогда мне неведомого (теперь — очень ведомого), ошеломительно заграничного (даже для меня, уже съездившего в славный Стокгольм), не менее крепкого, чем коньяк, но гораздо более сладкого, сладко и горько пахучего напитка в пузатой и тоже ошеломительно заграничной бутылке с красной печатью и красными ленточками, — той торжественно французской смеси коньяка с апельсиновым ликером (вот что это было, как я вскоре понял и выяснил), которую (я теперь думаю) ей мог бы привести из Авиньона Сергей, к примеру, Сергеевич, если бы он оттуда уже возвратился (но он еще не возвращался оттуда), — запах, короче, и вкус этого восхитительного напитка (сколько раз я потом пивал его, в трагическом моем одиночестве) отбил и вытеснил вкус советских чебуреков с котятиной, так что поцелуи ее, не знаю уж как мои, были сладкие, апельсиновые, коньячные, горькие, пьянящие, с ног и на пол сшибательные.
А мы и начали пить наш Grand Marnier на полу в прихожей, вот что я вам объявляю очень торжественно, хотя вы мне, возможно, и не поверите. Как он оказался на полу в прихожей, не знаю; как мы там оказались, не помню. Помню ее, Марии Львовны, шальные смеющиеся глаза. Помню ее коленки, вдруг снятые крупным планом, очень круглые, тоже шальные. Вдруг и сразу мы оказались с ней на полу в прихожей, не в силах идти дальше, втроем с бутылкой Большого Марнье. Да нет же, сударыня, мы никак не могли там лежать, в той прихожей, опять вы неправильно меня понимаете (рыдая, пишет Димитрий); прихожая была крошечная, как и вся квартирка была крошечная, хрущобная, хотя и двухкомнатная. Там были куклы повсюду, в этой крошечной хрущобной квартирке: и в ближней, и в дальней комнатке, и в прихожей, где не помню как оказались мы сидящими на полу с бутылкой коньячно-оранжевого ликера, который пили прямо из горлышка. А его нельзя пить из горлышка. Он неохотно вытекает из горлышка и кажется более горьким, менее сладким, чем если пить его, как это делают цивилизованные люди, из каких-нибудь ликерных, что ли, рюмочек (я не знаю, мне наплевать). И нам наплевать было на рюмочки, да и на цивилизацию тоже. В рассуждении цивилизации мы были ближе к куклам, свисавшим с потолка, качавшимся и смотревшим на нас. Одни куклы свисали с потолка, другие сидели на шкафах и на тумбочках. Они были разные, среди них были страшные. Были смешные, были очень красивые. Были буратины, были и бармалеи. Была, конечно, и Коломбина. Была смерть с косой, черт с рогами. Был печальнейший Пьеро, птицеклювый Полишинель в треуголке. Я все это не сразу увидел. Зато я сразу вспомнил ту церковь в Тайнинском, где вечность назад впервые мы целовались, и то, что там некогда была мастерская по изготовлению буратин с бармалеями. Уж не оттуда ли они к ней попали? Она тоже подумала о Тайнинском: не только из-за кукол, но из-за кукол, может быть, тоже. — Помнишь Тайнинское? она спросила, прижимаясь ко мне так плотно, что я почувствовал ее всю, всё ее — ее вавилонский бюст, ее библейские бедра, — и в то же время кивая одному из своих буралеев, как если его и вправду там сделали; а я, если что вообще помнил и помню в жизни, так именно это Тайнинское, эту речку Сукромку, эту тайну и кромку души; я знал в эту минуту, что люблю только ее, всегда любил ее, всегда и буду любить.
А что она, Мария Львовна, вообще имела какое-то отношение к кукольному театру, этого как раз я не знал; никто никогда не говорил мне об этом в театре некукольном. И если она сама шила этих барматин, пьеротин, — а там была швейная машинка — разумеется, Зингер, и если не Зингер, то все равно Зингер, — и разбросанные вокруг нее лоскутки пестрых тканей, в дальней комнатке-комнатушке, — то и об этом никто никогда на маленькой площади не говорил. Она засунула руку в прекраснейшую из кукол — совсем на нее не похожую, златовласую, лучистоокую — но такую же красавицу среди кукол, какой она была в жизни. — Ты же всегда хотел этого, милый мальчик, — произнесла она между двумя поцелуями, голосом этой куклы, которого до сих пор я не слышал, не слышал и после и в котором столько было любви ко мне, столько прелести и печали, что я подумал (успел подумать, я помню), что никогда, до старости и смерти не прощу ей этого милого мальчика, и тут же подумал, что буду не прощать ей этого милого мальчика позже, когда-нибудь, в старости и в преддверии смерти, а что сейчас, вот сейчас, мне это все равно, пусть называет меня как хочет. — Пойдем, — произнесла она тем же голосом, перебираясь в комнату на кровать, вместе со мной, и куклой, и Большим, в ту минуту даже Великим, Марнье.