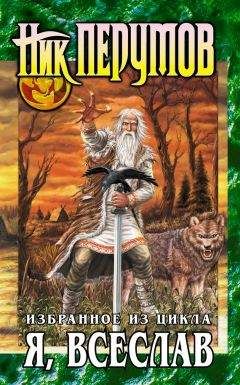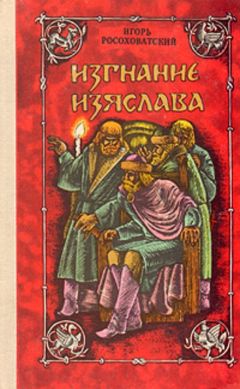Леонид Дайнеко - Всеслав Полоцкий
А если б ты этой ночью умер, тогда бы не застал тебя Угрим. И говорили б все: вот был бы жив Всеслав, заступился бы за Ярослава! И Святополка бы разбил, и племя его выгнал из Владимира, и отдал бы Волынь законным, Ярополчичам. А так…
Выходит, Она права? Всем нужно уходить в свой срок. А ведь лишь только первый день пошел! Их семь всего. И за семь дней…
Сел, обхватил руками голову. Гордец! Что возомнил! Володша, тот…
Смеялся Володша и говорил:
— Молчат находники! Не лезут.
И не лезли. Рюрик опять ушел за море. И долго его не было. В Новом Граде посадник сидел, из варягов. Брал дань, но только с ближних, с ильменцев.
Зато Оскольд в силу вошел. Любеч подмял, Чернигов. А после взял Смоленск. Зима пришла. Явились они к Полтеску. Лед на реке, голод в городе. И слух — это наказание за убиенных. Пошел Володша на кумирню и жег дары, рабов. Не помогло — молчал Перун.
А у Оскольда новый Бог, ромейский. Всесильный, грозный Бог. И сам Оскольд теперь зовется Николаем и чтит того, ромейского, который на кресте распят. К полянам из Царьграда волхв пришел, он звался Михаилом, принес Писание и уверял: вот где истинная вера. Смеялись все, Оскольд тоже смеялся. Тогда сказал им Михаил: «Смотрите!» — и бросил то Писание в огонь. И отступил огонь! И все они, кияне, поклонились и были крещены. А теперь они с тем грозным и всесильным Богом пришли сюда. Их тьма. Мечи, щиты, кольчуги — все на них ромейское. А у Володши что? Да и Перун молчит. И отворили люди Лживые Ворота — те, которые раньше Верхними назывались и через которые Трувор входил.
Побежал Володша, но поймали его. И разорвали здесь же, под окном. Оскольд дань положил, ушел, посадника оставил. И тихо было в Полтеске. Володшу, и жену его, и сына, и братьев — под корень всех извели.
Всех, да не всех! Микула уцелел. Они с Володшей — одного отца, но разных матерей. Говорят, ушел Микула по реке куда-то вниз, возможно, к варягам. А было оно так или нет, кто знает…
Князь поднял голову. Игнат в дверях.
— Ну, что тебе?!
— Так ждут давно. Те, на реке.
— А что Угрим?
— Уехал. Скоро.
— Как?
— Все честь по чести. Взял Лысого. А в поводу — Играя и Стреножку.
— Хорошо. Иди. Я приду.
Игнат ушел. Тихо в гриднице, пусто. Стол, миска, хлеб. Здесь за столом отец сидел. И дед. И много еще кто. A первым сел Микула. Хлеб… Князь отломил краюху и понюхал. Постоял… Потом подошел к печи и опустился на колени. Тихо позвал:
— Бережко! Бережко!
Никто не ответил. Да он ответа и не ждал. Переломил краюху, покрошил. Опять позвал:
— Бережко! Ешь!
Высыпал в подпечье. Подождал. Ни звука. Заглянул туда.
И улыбнулся — угольки светятся. Да, словно угольки. Моргают, тусклые. Значит, жует. Сыпанул еще, потом еще. Лик, он издалека привезен. Микула ликов не имел, он кланялся кумирам. А Полтеск у Оскольда взял! Прости мя, Господи!..
Перекрестился, встал и осмотрелся. Никого. Стол, миска, хлеб. А за окном давно уже светло. Пора идти. Небось заждались.
2Спустился по крыльцу. Крыльцо скрипело. Когда живой идет, оно всегда скрипит. А вот Она ходит неслышно.
Грязь во дворе. Перемостить пора. Ведь говорил же им не раз. Да что им грязь? Им грязь привычна. Им надо, чтобы все было в грязи, чтобы никто не вылезал. И думают, так здесь и ловчей всего. И правильней. Ровней. Бух в Зовуна — и глотку драть. Как будто что по-дедовски идет — это и есть венец всему. Глушь, темнота людская.
Щека задергалась.
Да что теперь тебе до них до всех? Осталось-то всего ничего, терпи! Терплю. Вон Хром идет. Бог в помощь, Хром. Будь здрав, Бажен. Кивнул, опять кивнул…
Остановился, оглянулся на Софию, снял шапку, осенил себя крестом. Отдал поклон — не Зовуну, а ей, ибо Зовун сам по себе, мы сами по себе. Шапку надел — на самые глаза. Прошел мимо него, не покосился даже… А ведь хотел идти без шапки. Взял сапоги варяжской юфти, нагольный полушубок, меч. А шапку отложил.
— Застынешь, князь, — сказал Игнат. — Вон ночью как тебя знобило.
— Так то не от этого.
— Все от того. И все к тому.
— К чему?
Игнат не ответил и подал шапку.
К тому ли, не к тому… А шапке сколько уже лет? Еще за море в ней ходил. Значит, с десяток будет. Ворс вытерся совсем. В такой, что ли, положат? А хоть бы и в такой!
Не выдержал, оглянулся. Висит Зовун, веревку ветер треплет. Озяб небось… Но погоди, даст Бог, скоро согреешься — и еще как, звону будет, радости!.. Тьфу, тьфу!
В воротах — отроки, Вешняк и Чмель. Заметили, как расплевался ты, теперь щерятся, зубастые. Что им Зовун? Им ты — Зовун, они — твои, не градские…
Ворота. Лживые. Трувор через них входил, Оскольд. А прадед твой, Владимир Святославич, внук Игорев и правнук Рюриков, тот на коне въехал, по костям. От Буса счет ведем, случалось всякое, но никогда еще такого не бывало, чтобы к нам в род въезжали — незвано и через нашу ж кровь! И от них, от этих ворот, ото дня того и зачалась вражда!
Мосток над рвом. Тропинка идет вниз, к реке. А вот и лодка. Ждут.
Князь помрачнел. На веслах — два Невьяна, Ухватый и Копыто. Недобрый это знак. А что теперь к добру?! Сел меж Невьянов, повелел:
— Не шибко.
Выгребли на стрежень. На Вражьем Острове кричали галки. На Заполотье было еще тихо, туман лежал. И ветер стих, а пробирало крепко. Князь запахнулся поплотней. Сидел, смотрел на воду. Вода была мутная. Ну, здравствуй, Дедушка. В Никитин день я одарил тебя. Ты отплатил — значит, дар мой принял. Отведал я нечистого да жирного. В последний раз. Теперь у меня все будет последнее; сначала ты, теперь на Хозяина иду. Молчишь? Ну-ну, молчи, а что тут скажешь?
Вздохнул Всеслав, расправил плечи. Невьяны гребли молча, споро. Князь осмотрелся и спросил:
— Там, что ли, Дедушку нашли? — И указал на заводь.
— Нет, пусто там, — сказал Копыто. — А мы вон там, подалее. И то не сразу отозвался. Полдня искали, аукали. Заспался, должно быть, Дедушка. Зима-то была знатная.
Копыто — он словоохотливый, Ухватый — нет. Зато умелец. Он и услышал Дедушку. Ходил по берегу и звал. Не дозовешься — худо будет. Ибо потом на реку лучше не ходи. Сети порвет, челн опрокинет. В Никитин день просыпается голодный, злой. Уважь его, лошадку сбрось, он более всего лошадок любит… И тогда уже все лето будь спокоен. Как Ратибор…
Нет-нет! Князь отмахнулся, словно от видения, криво ухмыльнулся, спросил:
— А рыбу тоже ты прибрал?
— Я, господин, — кивнул Ухватый.
— Он, князь, а кто еще?! — опять заговорил Копыто. — Вот вроде рядом, вместе мы стояли. И у меня — ничего. А он ладошкой по воде плясь-плясь, потом что-то пошептал — и зверь к нему идет! А он его за жабры! Он слово знает, князь. Он, этого, он и креста не носит.
— Ношу! — обиделся Ухватый. — Тогда только и снял.
— Вот видишь, князь, снимает! Значит, не зря. Да я хоть целый день буду стоять — и ничего. А этот только пошептал… Да ты не бойся князя! Князь сам…
— Что сам? — Всеслав нахмурился.
— Да так… — Копыто поперхнулся, — Глуп я. Не слушай меня, князь.
— Я и не слушаю. А ты молчи.
Город уже скрылся. Теперь по левой стороне стояли одни курганы. Поганые. Заросшие. Туда ходить нельзя. Ты это сам им запретил. Ибо не вера это, а обман, не боги — зло. Стозевые и ненасытные. Пресвятый Боже! Вот как я верую! Зачем мне то?! И жарко мне. Распахнут полушубок. Рука — на грудь, под ворот… Крест.
Сжал его — сильней, еще сильней. Крест крепкий, впивался в руку, не ломался. Казалось, вот-вот проткнет ладонь, а ты сжимал его, сжимал. Крест — в нем сила. Кем ты ни будешь, а он сильней тебя. Жил в Кракове епископ Станислав. Он говорил: король погряз в грехе. И подбивал на бунт. А может, и не подбивал, но обличал. И объявил, что не допустит короля к причастию. И вообще не примет его в храме. А Болеслав — тот самый, Необузданный, который вел на Киев Изяслава и изгонял тебя, законного… Законного! Ибо кто ты? Внук Изяславов, старшего из сыновей Владимира, и принял ты венец его, Владимиров, по чести, всенародно, и сам митрополит тебя венчал… Да, Болеслав. Так вот, тот самый Болеслав явился-таки в храм, схватил епископа прямо во время мессы и угрожал ему мечом. А Станислав сказал: «Побойся, Болеслав! Что будет мне, то будет и всей Польше. Вот на том и целую крест, что свершится так». И поцеловал. А Болеслав засмеялся. Схватил епископа, выволок на площадь и убил, четвертовал. И что получилось? Нет прежней Польши, нет короны. Изгнали короля, исчезла и корона; он, Болеслав, ее унес, спрятал под рубищем, бежал. И где-то в Швабии, Тюрингии — никто не знает точно — сгинул. Тот самый Болеслав, который Киев брал, Поморье жег, богемцев, угров воевал… Теперь брат его Герман — просто князь. А Польша, как тот Станислав, разрублена и четвертована. Вот как через святой крест-то переступать! И твоя сила, князь, — в кресте, а не в бесовских чарах. Чары — дым! Сожгли Перуна — и ушел Перун, рассеялся, как дым, курганы заросли. А ты правил и правишь. Оберег сорвал, крест поцеловал — и Она отступила! Сколько же лет носил ты его, оберег, надеялся… Все зря! Всего семь месяцев ты был Великим князем. Когда узнал, что Болеслав идет, выступил ему навстречу, верил, что оберег спасет тебя, как спас из поруба и как вознес на Место Отнее, над всею Русью! А после… предал он тебя. И ты ушел без боя. Срам. Обидно было, зло душило. Одно лишь и утешило, будто Болеслав взял Изяслава за грудки…