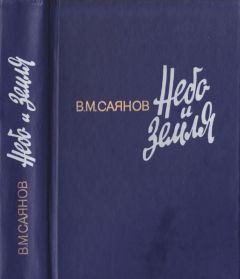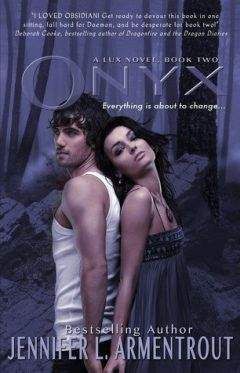Виссарион Саянов - Небо и земля
Жирный подбородок Хоботова трясся над высоким крахмальным воротничком, и все его преждевременно расплывшееся лицо было так хитро в эту минуту, что Быков растерялся:
— Ты с ума сошел, что ли?
— С ума? — удивился Хоботов.
— А как же иначе! Сам посуди: ты мне предложил только что взятку…
— Я? — широко раскрыл глаза Хоботов. — Какую взятку?
— Те две тысячи!
— Две тысячи! — облегченно вздохнул купчик. — Да какая же это взятка? Попросту за труды и по старой дружбе.
— Смотри, — угрожающе сказал Быков. — За такие разговоры можно тебя так сгрести за шиворот, что папы-мамы не вспомнишь.
Хоботов струсил:
— Да я пошутил.
— И к тому же предлагаешь мне с фронта удрать.
— Ну, что ты… Здесь бы ты более нужное дело делал…
— Завтра приеду, — сказал Быков, поднимаясь из-за стола. — Черт с тобой, сегодняшнее происшествие зачеркнем. Но от разговоров с тобою уволь. И помни, что характер у меня обстоятельный; плохих машин не сдавай, — не приму.
Чувствуя, что гроза прошла, Хоботов повеселел:
— А то посидел бы со мной… Кофейку бы попили… Мало ли что случается между приятелями…
* * *Назавтра в заводской конторе Хоботов сидел спокойный, подтянутый, строго смотрел в глаза Быкову своими темными хитрыми глазами и медленно говорил механику.
— Покажите завод господину Быкову. Свезите его на Крестовский остров. Может быть, тот аэродром ему понравится. Со сдатчиками познакомьте.
Он протянул Быкову длинную руку в перстнях и тотчас занялся бумагами.
Завод расширился за время войны, постройки стали богаче и лучше. Чувствовалось, что Хоботов изучил дело, ведет его сам, не доверяя служащим. Больше стали деревообделочные и слесарные мастерские, расширился сборочный цех.
Быков ходил по заводу, вспоминая службу свою до переезда в Москву, а потом вместе с механиком поехал на аэродром.
Со взморья дул ветер, волны набегали на отмель, лодки качало на большой волне.
Полетов в этот день не было. Быков вскорости вернулся в гостиницу. Рука привычно потянулась к трубке телефона, но вспомнил он свой уговор с Леной и загрустил.
Идти никуда не хотелось. Быков отправил посыльного за газетами и читал допоздна.
Прошло еще несколько дней: приступили к приемке самолетов. Приехали летчики из других армий, начались бесконечные разговоры о фронте, и Быкова потянуло обратно в отряд.
В конце недели снова встретился Быков с человеком, обещавшим переслать на фронт нелегальную литературу. Степан Коляков жил в окраинном районе, в огромном грязном дворе, построенном в шестидесятых годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировавшемся. Вот уж воистину страшны трущобы, в которых ни одной квартиры нельзя разыскать сразу… В низких плохо освещенных комнатах потолки были такого же черного цвета, как и пол, и в тусклые, из кусочков стекла составленные окна почти не пробивался свет. В каждой проходной комнате ютилось по нескольку семей, и пока удалось Быкову добраться до комнаты Колякова, пришлось переступить через десятки разложенных на полу матрацев.
— Вовремя пришли, — сказал Коляков, худой мужчина с бледным, усталым лицом, иссеченным синими полосами шрамом. — Я, по правде говоря, только из-за вас здесь и задержался. Вчера мне новую квартиру сняли, поближе к заводу.
Он вручил Быкову пакет с литературой и посоветовал ни мм минуту с этими листовками и газетами не расставаться, — в гостинице, где остановился летчик, всегда могут сделать обыск в его отсутствие.
— Уж вы простите, — сказал Коляков, — что я с вами не очень подробно беседую, дни суетные у нас, занятые… Завод бастует, часть рабочих отправили в дисциплинарный батальон, в Новгородскую губернию, под особое наблюдение, вместо них пригнали солдат. Начались провалы, большая группа работников доставлена вчера в охранное отделение. Но вы сами по району походите — увидите, как живет сейчас наша окраина. На время наступило затишье, но это затишье перед бурей.
Распрощавшись с Коляковым, Быков направился к остановке паровичка, — трамвай не ходил на эту окраину, нелегко Пило добраться оттуда до центра. Улицы окраины были безлюдны, не дымились заводские трубы, возле булочных и лавчонок, торгующих продовольствием, длинной очередью выстроились женщины. Иные из них приходили в очередь с табуретками и стульями и часами сидели, не двигаясь с места. Голодно было в Петрограде, неспокойно. Война нарушила жизнь заводского района, от которого до фронта семь лет скачи — не доскачешь…
В гостинице Быков, вспомнив рассказ Николая, в давнее время перевозившего нелегальную литературу, распорол подкладку френча. Он аккуратно, несколькими рядами, разложил газеты и листовки, сколол их английскими булавками, сверху наложил тонкий слой ватина, клеенку и снова зашил подкладку. Когда он надел френч и поглядел в зеркало, не узнал себя: он стал таким же полным, как Хоботов… Что ж, зато меньше беспокойств и забот о литературе, — теперь он спокойно может передвигаться повсюду, ни на минуту не расставаясь с драгоценными листками… Пакет-то и на самом деле потерять можно в сутолоке уличного движения или забыть за столом в ресторане…
Пешком дошел Быков до Невского. Он ходил по городу, словно прощаясь с ним. И в день, когда были погружены последние машины, позвонил Лене.
Условились встретиться в Летнем саду. Быков чуть не с утра сидел уже на скамейке в самой дальней аллее. За деревьями мелькали порой женские лица, и Быков не раз бросался навстречу незнакомым женщинам, принимая их за Лену. А она пришла, как всегда, вовремя, в распахнутом пальто, протянула руку, спросила, как провел Быков последние дни. Он долго молчал, словно никак не мог собраться с мыслями.
— Кончили дела на заводе?
— Вчера закончил, Елена Ивановна. Скоро уже уезжать. И то — гоните вы меня из Петрограда…
— Напротив: буду скучать без вас. Я привыкла к вам за последнее время…
— А я-то, Елена Ивановна, а я-то… — начал было он, но Лена нахмурилась, и Быков замолчал, искоса поглядывая на ее лицо, разрумянившееся после быстрой ходьбы.
— Много сделали в Петрограде? — снова спросила она, садясь рядом, снимая косынку и упираясь локтем в спинку скамейки.
— Не очень, — грустно ответил он, и невольно пришла в голову мысль, что отношения с Леной складываются так несуразно, может быть, именно потому, что он не посвящает ее в свою внутреннюю жизнь, не рассказывает о своих переживаниях; из всего, что случается с ним, выбирает или смешные истории, или то, что касается Глеба. Вот прожил он в Петрограде столько дней, и ничего не знает Лена ни о последних воздушных боях, ни о столкновении с Хоботовым. Много лет назад слышал он, как жена знакомого летчика говорила, что ей надоели бесконечные разговоры мужа о сортах бензина и марках моторов. Казалось ему, будто и Лене скучно слушать рассказы о полетах, о системах самолетов, о воздушных боях, о людях, с которыми он враждовал, о друзьях, об укладе его собственной жизни.
И сегодня разговор был немного смешлив и зачастую совсем бессодержателен. Наконец он спросил, прямо глядя в ее светлые глаза:
— Будете ждать меня?
— Об этом не спрашивают, — ответила она, задумавшись. — Это человек сам должен чувствовать.
— Вам не кажется, что мы еще совсем не жили? — спросил он, наморщив лоб. — Что вот совсем, совсем еще не жили. У меня был знакомый механик, чудесный француз Делье. Он погиб во время моего полета на «дюнер-дюссене», когда я сам тяжело разбился. Он говаривал, что ему казалось, будто во всей жизни его не было ни одного дня, когда бы он мог хорошо выспаться. «Моя жизнь? — сказал он однажды. — Она очень проста. Ее можно определить двумя словами: вечная бессонница».
Лена смотрела на него, задумчиво улыбаясь.
— Так вот и не жили, — повторил он огорченно. — Детство мое было горестно и трудно, молодость прошла в борьбе за кусок хлеба. Мне тридцать один год, а голова моя поседела. Мне никогда не давали жить так, как я хочу. Жирный банкир, с которым я заключил контракт, помешал мне добиться больших спортивных успехов. Потом я хотел честно работать на заводе, а меня заставили лететь на машине, которую я не знал, — и я разбился, чуть не погиб.
Удивленный своей неожиданной говорливостью, он тихо спросил:
— Вы не думали о том, что сможем же мы когда-нибудь узнать настоящую жизнь?
Да, она много думала об этом — и особенно за последнее время, с тех пор как работает в госпитале на Кирилловской улице. И не сама она пришла к думам о завтрашнем дне, — их подсказали раненые солдаты, которым она порою читала вслух хорошие старые книжки. Удивительно: они не хотели слушать ничего печального, ничего грустного, хоть сами страдали безмерно. Читай им обязательно о людях, которые всю жизнь прожили весело и легко и добивались всего, о чем мечтали. Казалось, в людях веселой судьбы находили они предвестье новой жизни, которая должна же, наконец, настать и для них…