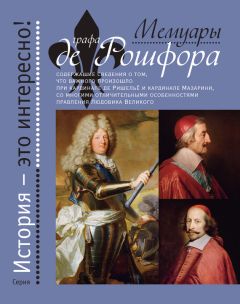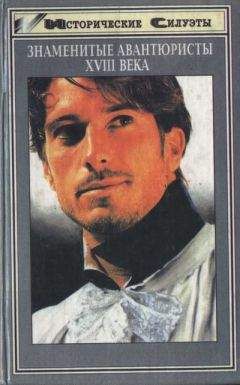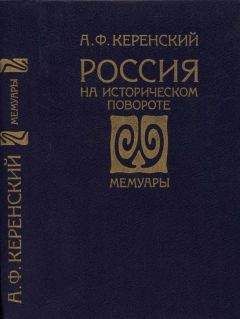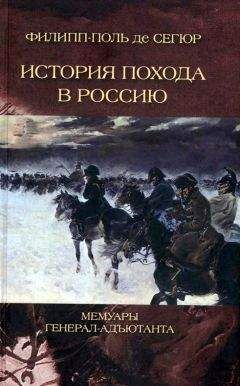Гасьен Куртиль де Сандра - Мемуары M. L. C. D. R.
Мне было простительно проводить так свои дни: увы, никчемная праздность — бич моего сословия. Чем бы ни пытался я занимать себя — чтением, игрой, прогулками, — все же не могу не признать, что нет участи скучнее, чем участь дворянина. Как уже говорилось, для меня не было бы большего счастья, чем удалиться от мира, однако — да позволят мне выразиться столь заурядно — я был лишен той жилки, что влечет к духовному поприщу: такую награду Господь не раздает направо и налево, и я из-за своих грехов оказался в числе тех, кто ее не получил. У меня была одна родственница, после замужества поселившаяся в двенадцати или пятнадцати лье от Парижа по нормандской дороге; она часто приглашала меня погостить, и я наконец попросил ее прислать за мной карету в Понтуаз{408}, куда обещал явиться в назначенный день. Не ограничившись этим, она сама очень рано приехала туда, остановилась в «Большом олене» и решила прогуляться по городу, пока не подадут экипаж, о котором я просил. Она не была красавицей и, несомненно, совершила бы большую ошибку, претендуя на это звание, — но все-таки очень любила себя и, давая волю кокетству, никогда не испытывала недостатка в воздыхателях. Наконец ей повстречались два дворянина, совсем не знавшие ее и поэтому принявшие не за ту, кем она была на самом деле. Поначалу оба вели себя вполне пристойно, и она не отвергала их общество. Увидев, что она хорошо их приняла, они утвердились в прежнем мнении о ней и, оказавшись в гостинице, вознамерились воспользоваться подвернувшимся благоприятным случаем. Если верить тому, как рассказывала о случившемся она сама, то все, кто узнал об этом, посмеялись над ней, подумав, что девица просто повздорила с сердечным дружком, — уж не знаю, кто тут захочет доискаться правды, а я слишком стар и полагаюсь на слово, сказанное, как говорится, глаза в глаза: в тот раз и она не избежала большой беды, не согласившись на домогательства. Защищаться ей пришлось отчаянно — ей даже порвали чепец. Вся гостиница шумела, когда я отыскал ее в гостиничном номере лежащей на кровати и, ободрив, спросил, не совершила ли она какой-либо оплошности, ставшей причиной насилия. Она ответила, что обычно ничего не делает, не получив прежде совета, и теперь, когда я приехал, хотела бы знать, как ей поступить. Я побранил ее за промедление и, заявив, что нужно немедленно донести о свершившемся насилии, обратился в полицию. Те молодые господчики были чрезвычайно обескуражены, поняв, что одним судебным разбирательством дело не ограничится и перед ними известный человек, имеющий довольно денег и связей, чтобы отплатить за содеянное. Кто-то посоветовал им просить прощения за ту низость, на которую они отважились, — но когда от них явился посланец, чтобы узнать, будут ли они прощены, я ответил, что такие подлецы должны понести куда более суровое наказание, — и допустил серьезный промах, выказав свое настроение перед правосудием. Получи я вовремя добрый совет, так настаивал бы на слушании дела в маршальском суде — это и быстрее, и гораздо дешевле; но гнев побудил меня начать процесс по обвинению в изнасиловании, и я не подумал, что мы влезаем в такие хитросплетения, из которых не сможем выбраться, даже если захотим. Действительно, наши противники, видя, что мы приступили к делу столь неосмотрительно, воспользовались этим, со своей стороны, и хотя ничего не смогли предъявить женщине, но так запутали судей возражениями и кляузами, что добились постановления в свою защиту против выдвинутых нами обвинений. Слушания дошли до Парламента и могли тянуться, как и предыдущий процесс, до бесконечности — подняли все дела, какие только эта женщина и ее муж делали за всю свою жизнь, и, короче говоря, обоим это так надоело, что они уже согласны были на мировую.
Их семью постиг позор, увы, нередкий в наше время: дочь забеременела и родила от воспитателя своих братьев; это повергло моих родственников в такое негодование, что они готовы были заколоть ее вместе с ребенком и, наверное, так бы и поступили, если бы не мой совет поскорее отправить ее в Америку, распустив здесь слух об ее кончине. Послушавшись, они объявили о ее болезни, затем якобы похоронили умершую, на самом же деле дочь под покровом ночи отправилась в Ла-Рошель{409}, где должна была сесть на корабль. Однако, как ни старались они сохранить это в тайне, наши соперники проведали, что похороны были не более чем представлением, и заговорили о том, что родители будто бы и впрямь убили дочку, да еще заявили об этом на процессе. В качестве доказательства они потребовали, чтобы гроб был извлечен из могилы и открыт в присутствии представителей правосудия. Это сильно смутило моих кузена и кузину. Они попытались уклониться от назначенной процедуры, прибегнув к разного рода юридическим уловкам, благо в таковых не было недостатка: ведь в деле участвовали прокуроры и адвокаты Парижа — города, способного тягаться даже с Руаном, где, как утверждают, живут самые искусные юристы. Но, как бы то ни было, отвертеться им не удалось: в гробу вместо тела нашли полено, и соответствующий протокол представили генеральному прокурору, который потребовал от родителей ответа, куда они девали свою дочь. Как ни тяжело было им рассказывать эту историю, которую в Парламенте не преминули расцветить соответствующими подробностями, но еще затруднительнее оказалось признаться, что же произошло с их дочерью в действительности. Вместо того чтобы ответить, что услали дочь в Америку, они сознались, будто поручили ее заботам человека, который, влюбившись, обещал не посягать на ее свободу при условии, что она будет с ним столь же любезна, как с тем воспитателем. Говоря об этом перед судьями, они путались и не знали, поверят ли им. Судьи и впрямь этим не удовлетворились и потребовали каких-нибудь доказательств. Супруги растерялись — и тут суд счел, что их замешательство вызвано какими-то иными причинами, арестовал обоих и поместил в Консьержери.
Узнав о судьбе родственников, я сильно опечалился: ведь это по моему настоянию и из-за моей неосмотрительности они были вовлечены в злополучный судебный процесс. Оказавшись перед выбором — выручить их или умереть от горя, — я с величайшей секретностью, на которую только был способен, расспросил всех женщин, живших ремеслом, не слишком достойным упоминания, но, тем не менее, известным, нет ли среди их весталок такой, что выглядела бы так-то и так-то. Сумма вознаграждения, на какое они могли рассчитывать, если бы назвали мне такую девицу, заставила их задрожать от волнения. В таком затруднительном положении можно было рассчитывать лишь на их помощь — я не без оснований полагал, что именно здесь надо искать девицу с такими дурными наклонностями, покинутую отцом и матерью. Удивительное дело: подобными розысками приходится заниматься людям достойным, ибо отчаянное их положение вынуждало ради спасения жизни смириться с позором. Между тем я, всячески стараясь остаться незамеченным, просмотрел кучу девиц; и хотя сам всегда говорил, что в Париже таковых пруд пруди, но никогда и помыслить не мог, как их много и насколько же широк их промысел. Я потратил больше месяца, обходя все указанные мне злачные места и везде находя не менее десяти-двенадцати девиц, — но даже среди них так и не встретил ту, которую искал, и единственное, что смог узнать, — она нашла приют у суконщицы по имени Маршан, а некий мужчина, воспылав к ней чувствами, посадил ее под замок. Мне не назвали ни дома, ни квартала, в котором жил этот человек, — легче было найти иголку в стоге сена, чем разыскивать его по всему Парижу, — и на время я прервал поиски. Однако не приходилось сомневаться, что указания верны, — и лишь потому, что она сама открылась своей подруге, а та возьми да и расскажи об этом, — и адвокаты, дабы не допустить обвинения против моих кузена и кузины, настояли, чтобы подругу выслушали судьи. Полагаю, суд без труда понял бы, что порядочные люди никогда бы не прибегли к столь унизительному свидетельству, не будь оно единственным средством установить истину, — но подруга, из-за своего предосудительного ремесла, не имела права давать показания в суде. Таким образом, все мои труды оказались напрасны, и нужно было искать иной способ.
Осознав, что мы оказались в затруднительном положении, враги торжествовали — в другое время, даже в том возрасте, в каком я пребывал, я бы уже не раз вызвал их на поединок. Среди множества славных дел, совершенных нашим Королем, ни одно не имело столь благих последствий, как запрет дуэлей: наказания за его нарушение, как уже говорилось, были столь суровы, что идти против него — значило бесповоротно себя погубить. И все же я с трудом сдерживался, когда встречал их во дворце и даже не раз намеренно толкал, но они делали вид, будто ничего не замечают. Это вызывало у меня еще больше досады: я видел, что они трусы. Но нашим делам это никак не помогало, и в суде мне напомнили — если не будут представлены доказательства того, что мадемуазель де *** жива, то ее отец и мать окажутся в великой опасности. Тогда я побывал у помощника комиссара в Шатле и попросил, чтобы его сослуживцы подняли списки всех меблированных комнат и расспросили у хозяев, не проживает ли у них та, кого я разыскиваю. Чтобы мою просьбу наверняка выполнили, я сопроводил ее сотней пистолей. И действительно, благодаря этому средству мне удалось узнать, что некая девушка, примерно такая, как я описал, о чем уже столько раз упомянул, живет на улице Галанд близ площади Мобер{410}. Явившись туда якобы нанять комнату, я наконец нашел бедняжку; она была в столь жалком состоянии, что я с трудом узнал ее, хотя прежде встречал много раз. Увидев меня, она чрезвычайно смутилась, особенно, когда я назвал ее по имени и начал упрекать. Она решила было, что ей, молодой, будет нетрудно вырваться от бедного старика и, притворившись, будто плачет, улучила минуту и попыталась выскользнуть за дверь — но тщетно: я был настороже, а кроме того, ее намерение придало мне бдительности и заставило не спускать с нее глаз, пока мне не пришли на помощь. Обрадованные полученными от меня добрыми вестями, отец и мать выправили документ, разрешавший препроводить дочь в монастырь; я воспользовался этим разрешением и отвел ее к маделонеткам{411}, куда заключаются падшие женщины.