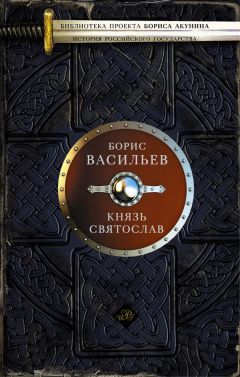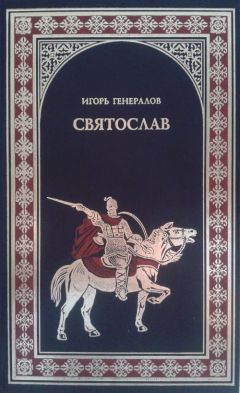Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 2
...Он придёт грузен до беспамятства, уронив ковш, падёт вниз лицом на скамью и, коротко захрипев, подёргается недолго: лезвие точно и глубоко войдёт в любвеобильное сердце Ивана.
В горе великом непритворном и в ужасе призовёт Александра Васильевна сейчас же бояр, зажжёт свечи, Ивана с трудом поворотят на спину, кровь почему-то совсем не выйдет. Ахнут бояре: несчастная случайность!.. Но один скажет: так на роду написано, видно, жила сердечная лопнула, хмелен был непомерно. И все согласятся: знамо, жила, знамо, хмель в жару сверх сил человеческих утруждает. Так и слугам и вельможам сообщат наутро и предъявят великого князя, уже обмытого и обряженного, с расчёсанной бородой, ещё влажной, положенного под образами в алых лучах восхода. Все горевать будут искренне и много об Иване Красном, Кротком и Милостивом, во цвете лет душой ко Господу изошедшем. Вдова, вестимо, уйдёт в монастырь по обычаю, снесёт в глухую обитель северную ещё одну страшную тайну души своей загубленной, ещё одну из многих, по келиям толстостенным холодным, под чёрными одеждами захороненных.
Ах, мечтания злые, ночные, одинокие!..
3
— Ты занят, отец? — Иван, пригнув голову, входил в сводчатую камору, куда Акинф переселился на лето, прохлады и уединения ради.
— Да вот грамотку некую перебелил, жду, когда краска в бумагу вомрет.
— Сколько их у тебя! — сказал Иван, оглядывая лавку, уставленную книгами.
— Я богат! — расцвёл Акинф, показывая охоту просветить по случаю князя, и уже протянул было руку достать какие-либо поучительные сочинения, но Иван Иванович остановил его мановением и взглядом повелительно-колючим. Сел, нога на ногу, молчал, был собою сумрачен.
Багряные глаза сон-травы с жёлтыми зрачками заглядывали в низкое оконце. Распевала где-то в зелени малиновка.
— Что ж, молви, зачем пришёл? — сказал Акинф, соскучившись ждать и желая остаться один со своими книгами.
— Буря меня волнует греховная, борение дьяволово.
— Опять? — Досада изобразилась в лице Акинфа. — Смирять себя надо. Сколько разов уж я тебе говорил?
— Так грешен, что на небо и глаз поднять не смею, так повинен, что и мысленно молиться не дерзаю. Страдаю я, батюшка. Ты меня с детства знаешь. Помоги мне.
— Думаю, что первое заблуждение человеков, в какое впадаем, что каждый своё страдание превыше чужого ставит и почитает непереносимым. Мы, конечно, сочувствуем другим-то, но умозрительно, Ваня, умозрительно!.. А что княгиня твоя?
— Жестока, яко ад, ревность, — потупился Иван.
— Женитьба закон Божий есть, а блуд беззаконие проклятое, — сказал Акинф сурово. Не хотелось ему вразумлять князя, стыдно было, но по долгу духовного наставления приходилось быть неотступным в исследовании греха. От неготовности и внутреннего стеснения Акинф даже сделался грубым, что обычно ему было несвойственно. — Я тебя грамоте учил, а теперь вот приходится такие слова... про сосуд дьявольский и прочее. Сладка, что ль, больно?
— Охочлива, — шёпотом признался Иван.
— Всегда в готовности ляжки развалить?
— Жаждает и просит.
Акинф хотел было сказать про глаз соблазняющий, который надо вырвать, а перст отрубить, но от возмущения сказал другое:
— Хуже сучки!
— Пускай! — тихо уронил Иван. — А ты женщин ненавидишь.
— Да как ты смеешь отцу духовному возражать? — открыто осерчал Акинф.
— Я к тебе как больной пришёл за советом, а получил лаяние, как у площадного подьячего.
— Не лаяние, а обличение греха ты получил, — поправил Акинф с задрожавшим от обиды лицом. — А ты ждал, я тебя по макушке гладить буду и слух твой ублажати?
Князь вскочил:
— Да, ждал! Чтоб приласкал и простил! Может, я всю жизнь только этого и хотел, чёрствый ты, попина! — И злые слёзы заблестели, не проливаясь, у него на глазах.
Глава сорок вторая
1
Ночь на Ивана Купалу была звёздной, голосистой, таинственной. В небе стояли редкие огнезарные облака, светлые и причудливые. Ещё дотлевала тёмно-изумрудная полоса заката, а на другом краю земли уже приоткрылась малиновая щель зари. В прозрачных сумерках горели костры по берегам Москвы, Неглинки, Яузы, дымно пылали на длинных шестах пропитанные смолой и салом пучки пеньки, с которыми кто-то бегал по кустам и в лугах. Медленно плыли по серебряной воде цветочные венки, покачивались отражения пущенных по течению зажжённых свечек. Обманная ночь, в блесках, отблесках, колдовская ночь! Недаром говорят, огню да воде не верь. Вся полна перекликающимися голосами, песнями, лукавая, пьяная, чародейская ночь!.. На крышах банек — убежищах нечистой силы — сидели девки и звонко закликали:
Вы катитесь, ведьмы,
За мхи, за болоты,
За гнилые колоды,
Где люди не бают,
Собаки не лают,
Куры не поют —
Вам там и место.
На сельских выгонах и по улицам московским шли плясания стыдные, неслись крики нестройные, девки поснимали пояса-обереги честные. Иные и власы непокрытые распустили до самых лядвий, голосили, себя позабывши, вихляя непотребно плечьми и задами. Иные, ноги заголив выше колен, через костры скакали, попадая пятками в горящие уголья. Все как будто что-то искали, кого-то звали, чего-то желали невозможного, не доискивались и лишь неистовели от этого. Безумная ночь! Ночь вседозволенности, залог приплода мартовского. Сминали сочные травы, качали верхушки укромных кустов, полосовали на бабах рубахи в разгуле ярости любовной, ловили молодиц любопытных, дрожащих грудями и жаждущих спытать всё, что можно спытать в такую ночь. Запахи воды и дыма, раздавленной листвы, треск огня, смелый соловьиный чок кружили головы, лишали памяти и страха, как будто это последняя в жизни ночь. И все как бы чего-то ждали, ворожили по искрам, перебегающим на пепле костров... Кому дано знать, ведь может быть, в самом деле это последняя такая ночь?..
Иван стоял на вислых открытых сенях в верху терема, поворачивал на пальце перстень, млечной голубизны опал с растворенными в мутной его глубине кровавыми пронизками, и думал, что прошла молодость. Целовала-голубила, уста в уста — и вомрет... Но не с огнём к пожару соваться. Пыльный привкус сухих волос, нос приплюснутый и навязчивый взгляд собачий — не было ничего роднее и недоступнее сейчас. Грубую речь и грубый голос Макридки больше всего хотел бы теперь услышать Иван. Чтоб легла рядом, смежив и уронив набок голые груди, завела толстую коленку на княжеские чресла и цепкими ладошками облазила везде. Да, такая всюду за тобой пойдёт, куда ни кликни, всегда за тобой пойдёт: и в пир, и в мир, в поход или в изгон. Неприхотлива, не изнежена. Требовательна только в одном, чтоб всю ночь не отлепляться друг от друга, настойчива только в том, чтоб снова и снова будить мужское семя, желая всё его выпить лоном своим, чтоб никому больше не досталось. «Хоть бы понесла, — думал иногда Иван, — может, яри у ней поубавится». Но бесплодная была Макридка, ещё в детстве испорченная турком-хозяином. Нам нужно чаще, чаще, убеждала она, и подольше, а то когда разных меняешь, не закрепляется дитя. А я те рожу, вот увидишь!.. Осчастливить хотела. Но её простодушие трогало. Никогда не спрашивала, придёт ли он ещё: а разве могло бьггь иначе? Ни о чём не просила: только бы глядеть на тебяJ Знал он, что значит глядеть! Она понятна, как яйцо куриное.
Иван был один. Шура запёрлась с детьми в дальних покоях, слуги, кто не ушёл на гулянье, спали но причине душной ночной истомы на сеновалах и в холодных пристройках.
Ночь была на исходе. Затихали песни. Золотые брызги тучами взлетали из костров от разбиваемых головней. Их старательно затаптывали, опасаясь пожаров. Сизые дымы ползли в лугах, перебирались через реку, растворялись в воздухе горьким туманом, как незримые следы бесовских забав.
Вдруг Иван понял, что происходит. Это чувство монахи называют богооставленностью. Бог оставил меня, и я во зле, оттого тоска и мертвение души. Жаждешь утешения, просишь ласки у людей: у тупой бабы, у попика, в книги зарывшегося, у собственной жены страдающей — не имея ласки и милости Божьей. Тогда безмерно и неутолимо твоё одиночество. Великий ли ты князь иль последний смерд, безысходна твоя затерянность в мире, куда ты пришёл, а мир не имеет надобности в тебе: мог бы и не приходить, ничего бы не случилось, никто бы не заметил, что ты здесь не побывал.