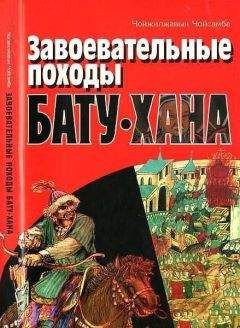Лев Никулин - России верные сыны
В кофейном доме Манури, у Нового моста, за длинными орехового дерева столами, на скамьях с мягкими подушками сидели доморощенные политики, читали «Journal de Débats», слушали болтуна-вестовщика, рассказывавшего последние сплетни о герцогине Ангулемской, о новом устройстве национальной гвардии, о новой привязанности мадемуазель Жорж. Занятие этих господ — в один день побывать в кофейных у Прокопа, у Тортони, у Манури, переносить сплетни и докладывать начальнику тайной полиции, что о сих сплетнях думают господа парижане.
Было время, когда здесь говорили о казни Людовика XVI, о войне в Вандее, о битве при Вальми. Сам Дантон здесь громовым голосом своим оглушал собеседников, прежде чем умолкнуть навеки. Было и такое время, когда здесь толковали о вступлении великой армии в Москву, о последнем бюллетене главной квартиры Наполеона. А теперь повторяют слова Талейрана: «Республика — невозможность, Бернадотт — интрига, одни Бурбоны — принцип…»
Итак, через двадцать пять лет Бурбоны сызнова «принцип»!
У Нового моста, который так зовется, несмотря на свою древность, стоял прусский военный караул с двумя пушками, заряженными картечью. Фитили дымились в руках у пушкарей. Излишняя предосторожность.
«Французы устали воевать», — сказал каретник в Сент-Антуанском предместье и отвернулся, чтобы не видеть австрийских гусар, поивших коней из уличного фонтана.
Уже явились с острова своего англичане. Поистине, вся Европа была в те дни на постое в столице Франции — пруссаки, вестфальцы, баварцы, вюртембержцы, шведы, поляки, австрийцы, англичане и мы — русские.
В прежние времена любил я смотреть с моста Художеств на прекрасную панораму Парижа. Отсюда виден Луврский дворец, Монетный двор и остров Ла Ситэ. В годы революции убрали конную статую короля Генриха IV; теперь поговаривали о том, что статую вернут на прежнее место. Мост Художеств соединяет Пале-Рояль и шоссе д’Антен с Сен-Жерменским предместьем. При переходе через мост взимают небольшую пошлину, и потому здесь можно встретить избранное общество, кареты с лакеями в ливреях на запятках, богатых бездельников, разглядывающих в лорнет плывущие по реке барки с углем, плоты из бревен.
Я привел Диму Слепцова в музей Лувра. Не торопясь, мы прошли по залам, где ученики школы живописи срисовывали творения Рафаэля, Тинторетто, Тициана. Понравилась моему другу девушка, искусно срисовывающая головы младенца и Мадонны Веронеза. Мы заговорили с ней.
— Произведения искусства, которые вы видите, — сказала она, — взяты были Наполеоном в Италии как военная добыча. Говорят, их снова отдадут герцогу Моденскому, и они снова станут недоступными для глаз простых смертных.
По залам музея бродили англичане, офицеры шотландских войск в своих клетчатых юбках, высокомерные офицеры королевской конной гвардии в красных мундирах; попадались и наши — военные лекари, артиллеристы.
Мы ушли из Лувра, когда настал час завтрака. Дима Слепцов тотчас повел меня в ресторан «Роше де Канкаль», где он успел побывать один и заплатил за обед 150 франков. Я осмелился сказать, что можно было пообедать и подешевле, что жалованье штаб-офицеру положено 24 тысячи франков в год, мы же с ним не штаб-, а обер-офицеры.
— А не станет денег — будем обедать в гингете за франк, — сказал мой беззаботный Дима и тотчас заказал три бутылки шампанского, рассуждая, что хорошее вино веселит сердце человека, о чем говорили еще и римляне.
Заказал рейнского карпа, женевскую лососину, вестфальскую ветчину, суп из черепахи. Из французской кухни отдал он честь только руанской утке, вин твердо держался французских, однако разума не терял и был отменным собеседником. С любопытством слушал я его рассказы о том, как один достойный его друг склонял его стать масоном и уже все было готово, чтобы посвятить его в «рыцари храма».
— Спрашиваю: в чем обязанности рыцаря храма, а он в ответ: «Бодрствуй, когда хочется спать, утомляй себя, когда хочешь отдыхать, не ешь, когда голоден, не пей, когда мучит жажда…» Я сказал, что все правила рыцарей храма по мне, и ежели последнее имеет касательство только к воде, а вино дозволено пить, то я и это правило приемлю. Мой друг счел эти слова за обиду, на том и кончилось.
Обед наш приходил к концу. Все, кто находился в «Роше де Канкаль», глядели на Диму Слепцова. Выпив в пять раз более меня, он потребовал еще бутылку коньяку вместо кофе, осушил ее и после сего, твердо держась на ногах, покинул ресторан, провожаемый рукоплесканиями посетителей…
Здесь мы расстались. Дима Слепцов в извозчичьем экипаже отправился в гостиницу на улице Ришелье, я же после такого завтрака решил навестить Тюильрийский сад.
В прежнее время я любил, заплатив два су за стул, сидеть под платанами сада и глядеть на игравших детей. Дети играли в войну, и, глядя на их сабли, барабаны, пушечки, я думал о том, что еще долго эти малютки не будут знать иных игр и иных игрушек. Вот плоды военного воспитания эпохи бонапартовой…
Взгляд мой остановился на Тюильрийском дворце; невольно подумал я обо всех тех, кто обитал в его стенах за четверть века: Людовик XVI, Комитет общественного спасения, Директория, Наполеон Бонапарт, а ныне Людовик XVIII. Какая участь ждет короля, призванного на трон против воли народа?..
Вдруг заиграла музыка, весь праздный, гуляющий в саду люд побежал на трубный звук, и я увидел на деревянном помосте музыкантов Семеновского полка. Французы с удовольствием слушали нашу полковую музыку…
Думал ли год назад Наполеон, что русские музыканты лейб-гвардии Семеновского полка будут играть против окон Тюильрийского дворца?.. И, вспомнив дерзкую надменность французов, тамбур-мажоров великой армии, шествовавших по улицам сожженной ими Москвы, порадовался я за наших гвардейских музыкантов, игравших наши славные походные марши в Тюильри. Слава русскому оружию, не только изгнавшему неприятеля из России, но и освободившему Европу от власти железного скипетра Наполеона! Жаль только, ежели победа сия не даст облегчения народам Европы. Жаль, ежели победа сия поведет к тому, что дух вольности угаснет от ледяного дыхания ее заклятых врагов…
Пока я размышлял, силясь проникнуть за завесу будущего, рядом уселся человек в зеленом сюртуке военного покроя, в светло-серых, обтягивающих ноги панталонах, в сапогах с желтыми отворотами. Усевшись в кресло и заплативши два су, он сумрачно уставился в землю. С первого взгляда я угадал в нем ветерана наполеоновской армии. Долго он сидел неподвижно, похлопывая тростью по сапогу, но вдруг лицо его оживилось. Мимо проходил солдат-инвалид, собиравший милостыню… Пустой рукав был приколот к груди изношенного мундира. Незнакомец сделал знак солдату, и тот приблизился.
— Какого полка?
— Двадцать четвертого гренадерского, герцога Невшательского, линейного…
— Где потерял руку?
— В сражении под Ауэрштэдтом.
Отставной офицер пошарил в кармане и горько усмехнулся. Должно быть, у него не было ничего, кроме двух су, заплаченных за стул. Тогда он снял с руки золотой перстень и положил в руку инвалида.
— Иди, старина… — сказал он и строго повторил: — Иди.
Пожалуй, таким людям ничего не осталось делать во Франции. Разве только ждать новой войны.
Подумал я и о себе. Что ожидает меня? Порадовался тому, что служба моя в Париже дает мне много свободы. Хорошо и то, что я вижу чужие земли не с казачьего седла или этапного маршрута, но и это для меня не радость… Когда я увижу родные земли? — думал я. Не так уж долго осталось ждать!..
Однако не то ожидало меня…
Поиски истины, душевные тревоги, разочарования ожидали меня в Париже, прежде чем на долгие годы я покинул столицу Франции.
Одна встреча запечатлелась в моей памяти, мне как бы блеснул свет в ночи. Пусть это была не путеводная звезда, но все же мне осветилась тропа, которая впоследствии привела меня к истинной цели всей моей жизни — служению человечеству и свободе.
…Однажды, воротившись домой, я застал письмо, запечатанное масонским знаком. В том письме человек, знакомый мне по моим московским досугам, назначал мне встречу в масонской ложе Великого Востока близ церкви сан Филипп дю Руль. Давно я не бывал в подобных собраниях, хотя Данилевский, член ложи и даже ритор, звал меня, расхваливая устройство Парижской ложи и приятное препровождение времени. Там, по словам Данилевского, можно было повидать важных особ — генералов и наших придворных. Завсегдатаем в ложе был генерал Михаил Федорович Орлов, известный по участию в переговорах о капитуляции Парижа, князь Сергей Волконский, кавалергард Лунин и другие достойные люди. Однако я не склонен был посетить ложу, если бы не письмо Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова, «бешеного Мамонова», как окрестили его в Москве. Встреча эта обещала не пустую беседу, а нечто важное «из чего может произойти общая польза», — писал мне Мамонов.
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)