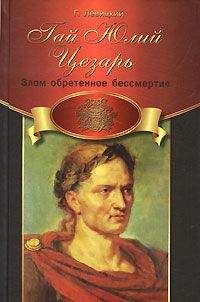Виталий Амутных - Русалия
Ольга, конечно, похвалила это свидетельство заботы греческого царя о нуждах своего отечества, но интересовало ее совсем другое.
— Чудесно все, что я вижу здесь… — заговорила она по-русски, напряженно косясь на шествовавшего подле молодого толмача, тут же повторившего ее слова по-гречески. — Но сдается мне, такие ли еще дива могли бы возникать на земле, когда бы Романия и великая Русь не просто записали на хартию свои пожелания жить во взаимной любви, но возвестили бы перед всем миром свою волю вовсе никогда не разлучаться.
Константин повернул к Ольге свой горбоносый лик, и какая-то странная улыбка едва приметно трепыхнулась на его бледных губах.
— Не могу и высказать, великая княгиня, как приятны слуху моему эти твои слова. Только чудом твоего восшествия в обновленную жизнь могу я объяснить то счастье, которое ты доставляешь мне, произнося их.
Что ж в таком ответе было довольно оснований для того, чтобы разглядеть в нем некий посул, будь он написан либо кем-то пересказан. Но сейчас произносивший их человек был перед Ольгой, и она имела возможность воспользоваться подсказкой интонаций голоса и движений лица своего собеседника, в каковых как правило и содержится истинность намерений человека. Но в том-то и дело, что выражение голубых глаз Константина казалось ей весьма отстраненным, а голос слишком уж холодным для того, чтобы за привычными звуками можно было углядеть заинтересованность вопросом, равную Ольгиной, а вместе с тем и готовность к немедленным и решающим действиям.
— Только ведь для такого союза и ручательства нужны особенные, — вновь закидывала хитрое словечко Ольга, жадно всматриваясь в дохлое лицо Константина, дабы не упустить самого малого отсвета мысли, отразившегося на нем. — Мне казалось, в тех грамотках, что привозили мне от тебя, ты и сам о чем-то таком соображал.
Сизоватые мешки под глазами ромейского царя собрались в тоненькие продольные складки, припухлые веки опустились ниже, так, словно, его уязвила внезапная боль.
— Все в этом мире поддерживается, сохраняется одной только добротой да еще великой любовью. Именно узы неизреченной любви следует признать самыми прочными. Но Бог ангелов и людей говорит, что он будет Богом тех, кто просветится благодатью. Теперь ты знаешь, что такое благодать. Это Евангелие и крещение. Ты вовремя, величайшая из княгинь, повела свою душевную ладью к божественной пристани благочестия. С помощью божественного писания ты избежишь любых невзгод, которыми подчас испытывает крепость нашей веры Господь. В самые тяжелые минуты теперь ты можешь раскрыть священную книгу и с помощью божественных слов потопить дьявола со всей его черной ратью. Я всегда буду молиться за тебя. Нет в мире другой силы, кроме Христовой любви, которая смогла бы так крепко соединить нас, которая дала бы и твоему и моему народу такие ручательства верности и…
Ольга не отрывала от него только что синих, да вдруг потемневших глаз. Нет, не то, чтобы он валял дурака… Но не было в его словах и той страстной одержимости, которая присуща всякой значительной увлеченности. Он просто произносил давно заученные сентенции, дробя их и вновь соединяя в чуть измененных словесных узорах. С той же степенью убежденности, видать, он уверял царей иных стран (как о том слышала Ольга), просивших или требовавших открыть им тайну жидкого огня, что оружие это было передано Романии через ангела самим Богом с условием, что никакой народ не получит того огня и не будет обучен секрету его приготовления. И тут ужасная мысль, точно тем самым жидким огнем окатила ее: а способен ли вообще этот человек что-то решать? От него ли приходили те вести, а если и так, — сам ли он измышлял то, что в них содержалось?
— …мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом… А вот там я строю дворец своему сыну, Роману. Он будет благолепиее моего собственного.
И какая-то глумливая тревога закралась в сердце княгини.
Впрочем прогулка длилась недолго. Вновь Константина окружила его свита, а Ольгу — своя. Русскому посольству было предложено в обществе каких-то пестрых особ, в сопровождении кифаристов и песельников еще насладиться красотами здешних вертоградов с тем, чтобы император мог приготовиться к очередному торжеству — большому обеду, для которого будет отдана храмина Юстинианова.
Ольга давно уже устала от всей этой лезшей отовсюду в глаза сверкающей мишуры, все менее воспринимавшейся ею, как свидетельство обосновавшейся здесь мощи, все более обнаруживавшей заурядность, слишком низкий подъем деятельной мыли и отсутствие молодого стремления к захвату новых жизненных рубежей. (Да разве может сознание, нагруженное всем этим барахлом, осуществлять какие-то стремительные движения, когда его хозяину едва хватает сил, чтобы не утратить накопленного?) Оттого новая храмина, в которой все также было наполнено фаворским[340] цветом, уже неспособна была удивить. Здесь Ольгу поджидала нечаянность иного рода.
Русскую княгиню с ее людьми ввели в палату уже полную народа. Пестро одетые люди, молодые и старые (но больше старые), накрашенные женщины сидели за расставленными по всему залу многочисленными столами по несколько человек за каждым. Было шумно и душно от смешавшихся в воздухе тысячи благовоний. При появлении в храмине Ольги многие лица на какое-то время поворотились в ее сторону, и на каждом было запечатлено любопытство человека впервые увидавшего струфокамила[341].
— Ты посмотри, что это она на себя надела! — весело зашептала дочь Константина Агафа сидящей подле нее Евдоксие, бывшей жене Мариана Аргира, одного из исполнителей заговора против Романа Лакапина, которого после успешного завершения дела и помогла умертвить, как свидетеля, за что была возвышена новым василевсом — выдана замуж за магистра Николая. — Похоже, эту ризу она получила от своей прапрабабушки.
И горбоносая, как отец, Агафа, отведя взгляд от незадачливой щеголихи, передернула бровями и негромко рассмеялась, обнажив меж накрашенными пухлыми губами мелкие желтоватые зубы.
Ольга очень тщательно готовилась к этому своему походу, но несмотря на все усилия, ей все-таки не удалось вызнать всего. Ткань для того наряда, в который она сейчас была облачена, специально прошлой осенью привезли из Царьграда. Но не могла знать Ольга, что вот уже почти год между обитательницами Большого дворца было признано, что завиток узора должен быть направлен в противоположную сторону, что вытканная отделка многоузорчатого шелка только на одну четверть может состоять из серебряных нитей, все остальное должно быть золото… Да и нашитые на башмаки разномастные камни давно уж, кто мог, сменил на золотые бляшки и снискавшие последнее время особенную любовь у охотников обращать на себя внимание кроваво-красные капельки лала[342].
Не успела Ольга еще толком оглядеться, как в противоположной стороне зала опять же под торжественное бряцание кимвалов и пронзительные звуки каких-то дудок растворились серебряные врата, и в храмину вступил император… со своей императрицей. Все сидевшие за столами тотчас повскакали со своих мест, попадали ниц (помня о том, с какой целью она сюда явилась, Ольга нашла в себе мужество не последовать их примеру), затем с позволения василевса вновь поднявшись на ноги, принялись выкрикивать какую-то здравицу (причем удивительно слаженно), и покуда царственная чета не прошла к серебряному столу, установленному на некотором возвышении, и пока не устроилась в тронных креслах подле него, толпа так и продолжала стоять, одушевленно славя своего василевса. Но вот когда эта церемония окончилась, и все вновь заняли свои места за столами…
Оказалось, что стоящими осталась одна только Ольга да еще несколько самых значительных лиц из ее свиты, допущенных в этот зал (прочие для торжественного обеда были препровождены в другие, более скромные комнаты), не считая прислужников, плясунов и каких-то ничтожных лиц, жавшихся по углам. Ольга стояла как столб едва ли не посередине зала, глядя на вроде бы занятых каким-то разговором Константина и Елену, щеками, затылком, поясницей ощущая въедливое зубоскальство немилосердной толпы. Ей казалось, она должна сгореть от этого позора. Простояв со своими лодьями в Суде едва ли не целый день, прежде чем ее впустили в город, она уже должна была бы понять, что может ожидать ее здесь. И вот вновь, теперь уже куда более жестко, ей указывали на то, какую, собственно, поживу она может здесь отыскать. Ольга продолжала стоять, напрасно ловя глазами случайный взгляд Константина, и ей казалось, что все это стадо не взрывается безудержным хохотом только для того, чтобы, оттягивая момент удовольствия, довести его до наивысшего предела. Боль бесчестья родила в княгине волну столь сокрушительной злобы, что, будь хоть какое-то сиденье, она тут же, рискуя вломиться в скандал, уселась бы на него, не дожидаясь пробуждения задремавшей внимательности хозяев, но в том то и дело, что рядом не было ни одного свободного места. Долго ли продолжалось это мучительство? Ольге казалось — бесконечно. Но вот августа как бы невзначай разглядела стоящую столбом гостью и, обратив к ней свое круглое пухлое лицо, от которого далеко вперед выступал длинный нос, возговорила нескрываемо искусственным голосом: