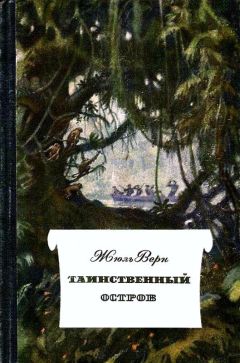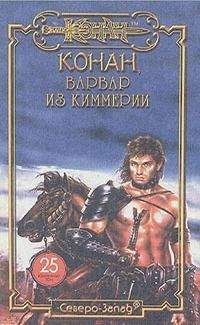Эдуард Зорин - Огненное порубежье
— А где же твой перстень, Летяга?..
И верно, жаль стало Летяге перстня.
— Возвращайте подарок, — сказал он девушкам.
— Не подарок это, а выкуп, — сказали девушки. — Мы тебе нашу Марфушу отдали.
— Да где она?! — рассердился сотник.
— То не наша вина, что руки у тебя дырявые.
Сплюнул Летяга и пошел к коновязи, где уже, сгорая от нетерпения, поджидал его Ипатий. Нервно кривя рот, спросил сотника:
— Аль обиду на меня затаил?
— С чего это? — удивился Летяга.
— Да вроде бы не признал у ворот, — осторожно напомнил ему Ипатий.
— Ишь ты, — загадочно улыбаясь, покачал головой Летяга. — Нешто не видел, что я с князем?
— С князем, — протянул Ипатий. — А как с вечера пили меды, про князя ты и не вспомнил.
— С вечера другой был разговор.
— Про тот разговор ты забудь, — дрожа от страха, заискивающе попросил Ипатий.
Летяга задумчиво уставился на тысяцкого.
— Видал, как девки перстень у меня выманили? — сказал он.
— Шалуньи, — кивнул Ипатий.
— А ты мне свой отдай, — сказал Летяга, нагло глядя в глаза тысяцкого. — Вот этот…
— Женой подаренный, — растерянно пробормотал Ипатий и снова изменился в лице.
Летяга засмеялся, глядя поверх головы тысяцкого, будто вспоминая приятное, нараспев сказал:
— Ехали мы давеча возле болота, слышу: никак, лягушата расквакались. К чему бы это?
— Бери, бери, — торопливо пробормотал Ипатий, всовывая ему перстень в ладонь.
— Чего это ты? — удивился Летяга, поднося перстень к глазам.
— Не поминай лихом, — помертвевшими губами прошелестел Ипатий.
— Хорош перстенек, — сказал Летяга, насаживая его на свой палец. — И где это только жена твоя его раздобыла?
— У нашего златокузнеца, где же еще, — сердито проговорил Ипатий.
— Ну, спасибо тебе, — сказал Летяга.
— И тебе спасибо, — поклонился ему сотник.
— Глядите, какой мне перстенек подарил тысяцкий, — похвалился Летяга перед дружинниками. Те удивились:
— Дорогой перстенек.
— Чистого золота.
— Отчего же такой подарок?
— По дружбе. Друзья мы с тысяцким, — сказал Летяга. Ипатий покраснел и отошел в сторону.
— Жди нынче на меды! — крикнул ему Летяга вдогонку.
— Чтоб ты подавился, — процедил сквозь зубы Ипатий и сочно сплюнул.
Теперь он уже жалел, что смалодушничал и сделал такой щедрый подарок. Про лягушонка все забылось, а жена дома нынче же спросит, куда дел перстенек.
На крыльце княжеского терема показались Давыд со Святославной. Давыд был важен, княгиня обессиленно опиралась о его руку.
Князь ликовал: не зря спешил он в Смоленск — святая Богородица надоумила. В самый раз поспел. Нынче другому князю здесь делать нечего. По праву перешло ему Романово наследство. А Рюрик пусть подождет — не время ему сейчас ссориться со Святославом. Небось брат и сам за себя не хуже постоит.
Уж прикидывал в уме Давыд, как начнет распоряжаться Смоленским княжеством. Перво-наперво уберет с глаз долой всех Романовых людей. Избаловались они при слабом князе, распустили языки. Он их им укоротит. Отымет все, что щедро раздарил Роман. Отдаст землю верным дружинникам. Бояр тоже умаслит, бросит и им по куску — те уже сейчас глядят ему в рот, чуют, откуда ветер подул.
Только что выхвалялись в тереме:
— Род Ростиславичей не посрамим!
— Ты на нас положись, княже.
— В беде не оставим.
От одного взгляда на бояр кисло становилось у Давыда во рту, но вида он не подавал, елейно улыбался важным старикам, говорил тоже льстивые речи. Боярину Горше, у которого мужики по пьянке сожгли усадьбу, тут же, не сходя с места, подарил две золотые гривны. Пусть не думает, что Давыд скуп. А ему — не в тягость. Все равно пока не свое дарил, а Романово. Святославна надула губы, не понравился ей щедрый жест князя, но возражать ему она побоялась — еще нужно было устраивать свою судьбу. Хоть и знала она, что путь ей теперь один — в монастырь, но еще цеплялась за ветхую надежду.
Только на что ей надеяться? С Давыдом никогда не жила она в мире. Да и Роман не очень-то жаловал брата. Больше любил младших — Святослава с Мстиславом. Но Святослав умер еще в малолетстве, а с той поры как Мстислав скончался — и года еще не прошло. Сильно плакал Роман, когда принес ему гонец известие о смерти его любимца, подолгу стоял в церкви, молясь за спасение его души, ставил ему пудовые свечи.
Давыд был дерзок и груб, и это не нравилось кроткому Роману. Сколько раз он его увещевал, сколько раз пытался наставить на путь истинный, но все его старания пропали даром. Добился он только одного: возненавидел его Давыд, отшатнулся. Приласкал его Рюрик — к нему и льнул непутевый братец, от него и набирался житейской мудрости. Жаден был Давыд и в жадности своей неукротим.
Говорил Роман:
— Зоб у тебя, Давыд, полон, а глаза голодны. Какими бы руки длинными ни были, все равно всего к себе не загребешь.
Думал ли он, что загребет Давыд его княжество, что, сидя на его стольце, будет задабривать бояр золотом из его, Романовых, скотниц?..
Не думала об этом и Святославна. Ударило ей горячей волной в сердце, лишь когда увидела въезжающего на княжеский двор Давыда. Вот отчего снились ей неспокойные сны, вот отчего томило предчувствие. Нет, не миновать ей монастыря, да, может быть, оно и к лучшему? Все равно без Романа не видать ей жизни в миру, все равно не выплакать ей всех своих слез…
Гордо шел Давыд через двор, ловил устремленные на него заискивающие взгляды. Всем дарил он широкую улыбку, потому что радость в нем била через край и скрывать своего торжества он не намеревался. Все равно никто не поверит, будто скорбит он по усопшему Роману. Пусть знают, пусть чувствуют: появился в Смоленске новый хозяин. Молодой. Надежный. На долгие времена.
Увидев князя с княгиней, Летяга всполошился, бросился помогать Давыду сесть на коня. Он тоже уже смекнул, что настала пора менять хозяина: по всему видать, как ненадежно сидит Рюрик в Киеве. Собирается на границе с Новгородом гроза, приближается к волоку. Того и гляди, спустится не сегодня-завтра вниз по Днепру окрепшая Святославова рать.
3Отшумела гроза. Большая туча, волоча за собой длинный подол дождя, уползла за лес, на западе выглянуло солнце, бросило в разрывы облаков, еще застилавших окраину поля, косые лучи, взорвало на листьях берез тысячи маленьких ослепительных брызг — над речкой выгнулась многоцветная радуга.
Святославна вышла на крыльцо трапезной, окинула взорам расстилающуюся за деревянными стенами монастыря необозримую даль. Вот уже вторую неделю она в обители, вторую неделю выходит в один и тот же час на крыльцо и напряженно всматривается, словно ждет кого-то. Ждать ей некого, но тоненькая нить, связывающая ее с прошлым, еще не разорвалась, еще волнует ее сердце музыка теплого дождя, шорох листвы, плеск невидимой реки. Еще живы воспоминания, да и умрут ли они, хоть и истязает она себя, хоть и пытается смирить изнуряющими молитвами.
Еще недавно казалось Святославне, что сердце ее окаменело для жизни, что чужая беда не тронет ее и чужая радость не наполнит светлой завистью.
Но молитвы не смогли стереть в ее памяти воспоминаний. Они живуче шевелились в ней, как запретный плод, они рвались на свободу и вдруг непрошенно вставали перед ней в своей осязаемой обнаженности — в келье ли перед сном, или в церкви на молитве, когда она обращала свой взор к образу скорбящей богоматери с ребенком на руках. У нее было трое сыновей, и один из них умер еще во младенчестве. Она вспоминала детский натруженный крик, видела устремленные на нее вопрошающие глаза, в которых замер испуг перед неведомым: ребенок не знал, что смерть уже третий день витала у его изголовья. Неслышной тенью входил в ложницу Роман, вставал за спиной Святославны. Его присутствие прибавляло ей силы перед лицом неминуемо надвигающейся беды, и она благодарила его взглядом.
— Ты устала, — говорил ей Роман. — Иди, отдохни.
Он трогал ее за плечо, и она безвольно подчинялась его жесту; она уходила, но не могла все равно заснуть, прислушивалась к отдаленным шорохам и боялась, что заснет, что проспит тот миг, когда к холодеющему тельцу младенца прикоснется костлявая рука смерти.
Он не должен был быть одинок в этот последний в его жизни миг, когда жизнь и небытие, сплетясь, отрывали его от ясности и простоты всего земного, ради чего человек и приходит в этот мир.
Святославна садилась на постели и, затаившись, ждала приглушенного расстоянием крика кормилицы. Но проходила ночь, а маленький Борис все еще жил. С первым рассветным лучом лицо его вновь розовело.
Тогда Роман покидал ложницу, на цыпочках, стараясь не шуметь, входил к жене и ложился рядом, но тоже не мог уснуть, и она слышала его учащенное дыхание.