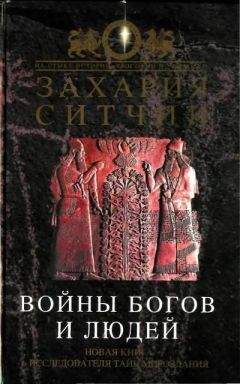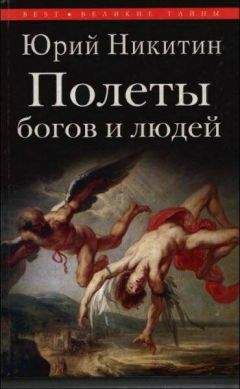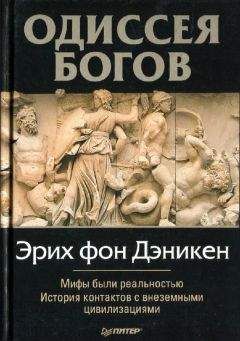Н. Северин - Звезда цесаревны
— Кого же видеть, когда я был как бы в безумии! Надо дивиться, что я этот удар пережил, что у меня сердце не разорвалось от горя!
— Тебе смерти желать нельзя, ты ей пуще прежнего теперь нужен.
— Да что мне делать-то? Куда бежать? Кого молить о помощи?.. Ничего сам не могу придумать, уж я думал, думал, перебирал, перебирал в уме всех, кого знаю, — ни на ком не могу остановиться… Если она арестована по приказанию нового нашего антихриста Бирона, у кого найти против него уем? Если уж Шубина цесаревна спасти не могла!.. Посоветуй, ради самого Бога, поддержи ты меня! На тебя одна надежда! Совсем я ослаб от отчаяния, в одной только смерти вижу исход… пусть и меня куда-нибудь заключат, пусть мучают и меня с нею, пусть наши обе головы палач отрубит, буду об этом нашего злодея просить как о милости… Как Петр Филиппович просил Долгорукова перед казнью, чтоб только не пала его невинная кровь на голову его жены и ребенка, так и я буду просить, чтоб взяли мою жизнь за ее… я им опаснее, чем она. Я с отчаяния на все пойду… мне жалеть нечего… пусть они скорее меня убьют… чтоб я их не убил! — вскричал он с возрастающим отчаянием.
— Вспомни Бога, Иван! — строго вымолвил Ермилыч.
— Бог… Бог от нас отступился, — прошептал, низко опуская голову, молодой человек.
— Не греши! Никогда, может быть, он не был от тебя так близко, как в эти скорбные минуты, — продолжал Ермилыч, все выше и тверже возвышая голос, по мере того как раскаяние, проникая в сердце его слушателя, вырывалось глухими рыданиями из наболевшей груди.
— Помоги! — чуть слышно проговорил он, закрыв лицо руками.
— Ты прежде всего сердечную твою тревогу уйми да от злых побуждений очисти сердце, тогда нас Господь вразумит на борьбу с врагами. Молись, предай себя и ее на волю Божию, моли его направить твою волю, войти в твою душу…
Долго говорил Ермилыч в том же духе, и мало-помалу под влиянием его слов и его теплой живой веры Ветлов успокоился, и мысли его прояснились. Тогда собеседник заговорил с ним другим тоном.
— Хорошо, что Господь надоумил тебя, или, лучше сказать, Грицка, привезти тебя к нам, да еще под вечер, когда у нас цельная ночь на размышление да на совещание с человеком, который может тебе помочь…
— Кто такой? Почему ты мне раньше про него не сказал?
— Потому, что ты и слов бы моих не принял, в таком был исступлении ума. Время не ушло, пошлю за ним, и он явится. Вот уж с месяц, как он у нас проживает, готовится в дальний путь, в Соловки, чтоб там постричься в монахи. Сошелся я с ним за это время как с сыном духовным, в старцы он меня выбрал…
— Да кто он такой и чем может нам помочь? — вне себя от нетерпения, прервал Ветлов речь своего старого друга. — Не мучай меня, скажи скорее!
— Эх, Василич, муки твои еще только начинаются, а тебя уж нетерпение берет! — укоризненно покачал головой Ермилыч. — Человек этот служил лет двадцать в Преображенском приказе при сыскных делах, и много делов там через его руки прошло! Алексея Яковлевича, пока его в Питер не увезли, он каждый день видел, и супругу твою, когда цесаревна посылала ее сюда, чтоб попытаться Шубина повидать, он к нему водил…
— Лизавета виделась с Шубиным?! Ни слова она мне про это не писала! Я даже не знал, что она в Москву этой зимой приезжала!
— Для чего стала бы она тебе про это писать? Чужие тайны никому, даже мужу, поверять не следует. Вот как дело дошло до нее самой, как ты ей самой сделался нужен, тогда она тебя вызвала…
— Да поздно. Знай я только все, что здесь у вас творится, ни за что бы в лесу не усидел… Так ты думаешь, что этот приказный нам может быть полезен? В чем же? Разве что только совет может дать, к кому мне в Петербурге обратиться за помощью?
— Там видно будет. Пошлю за ним, и потолкуем. Ему многое известно по тому несчастному шубинскому делу, при всех допросах он присутствовал и показания при пытках записывал… Зря ведь хватали людей, Алексей Яковлевич никого не оговорил…
— Что с ним сделали? Куда девали? — с замирающим сердцем спросил Ветлов.
— Он уж свое отстрадал и в новую жизнь ссыльного колодника вступил. Пошли ему, Господи, терпения и мир душевный, — со вздохом отвечал Ермилыч.
— Не удалось цесаревне его спасти?
— Велик уж слишком за него выкуп запросили злодеи.
— У нас прошел слух, будто немцы хотели заставить цесаревну за брата Бирона замуж выйти? Неужто ж они и в самом деле осмелились ей такое бесчестье предложить? Царской дочери, на которую все русские люди как на будущую императрицу смотрят! — вскричал с негодованием Ветлов. — А ловко придумали! Черти! Чистые черти! И как это они до сих пор живы? Как это никто не надумает собою пожертвовать за родину, как Петр Филиппович собою пожертвовал, чтоб открыть царю глаза на Долгоруковых?! — прибавил он задумчиво. — И как это они, ей в отместку за отказ, до смерти Шубина не замучили? Да, может быть, его уж давно и в живых нет…
— Он жив. Палачами истерзанного вывезли его из города еще живого, а куда — неизвестно. Под чужим именем, говорят, чтоб никто спасти его не мог… Мало ли бежит народа из Сибири! А у цесаревны доброжелателей много.
— Что ты правду говоришь, что много, нашлись бы и у нас такие молодцы, которые бы не задумались пойти в Сибирь разыскивать Шубина из любви к ней.
— Им его не найти.
— А сама-то она теперь где? — продолжал свой допрос Ветлов.
— Из Петербурга прямо в монастырь, что возле Александровского, проехала и поселилась там до поры до времени. Одна, ни Лизаветы, ни Шуваловой с собою не взяла, приказала им в Москве оставаться. Не дальше как третьего дня писала мне оттуда Лизавета Касимовна.
— А сегодня она уже в темнице! Боже мой! Боже мой! Неужто ж и ее так же будут мучить и до смерти доведут! — простонал Ветлов под наплывом страшных представлений, от которых ему только на короткое время удавалось освободиться. — Как это вынести! Можно ли не страдать, когда знаешь, что она мучается?..
— Не страдать нельзя, но при этом надо и действовать, и быть мужчиной и русским человеком, — прервал его Ермилыч, поднимаясь с места, чтоб приказать позвать приказного, про которого он говорил Ветлову.
Явился высокий худой человек, средних лет, в нанковом подряснике и в скуфейке, с очками в медной оправе на длинном, тонком носу, поверх которых смотрели острые, живые глаза. Ему изложили дело и спросили, что он советует предпринять.
— Вам, без сомнения, было бы теперь всего желательнее повидаться с вашей супругой? — спросил он, вскидывая пытливый взгляд на Ветлова.
— А разве это можно? — с живостью вскричал Иван Васильевич.
— Попытаться всегда можно. Водил же я вашу супругу на свидание с Шубиным. И большую они при этом силу воли и самообладания проявили, — продолжал он. — Я, признаться, раньше ждал на нее гонения, ведь им известно, что благодаря ей цесаревна ни в чем им не уступила, и вот только теперь вздумали злобу свою на ней срывать. Без наговора тут не обошлось, — прибавил он.
— Кто же мог на нее наговорить? Никому она не сделала зла и так осторожна, что никто не может похвастаться, что лишнее слово от нее услышал. Даже мне, законному своему супругу, не высказывает она ничего лишнего, — заметил Ветлов. — А уж особливо про цесаревну!
На это новый его знакомый — звали его Захаром Карповичем — только плечами пожал и объявил, обращаясь к хозяину кельи, что слушал у них вечерню звенигородский обыватель, у которого сестра монахиней в женском Александровском монастыре, и что он от нее узнал новость.
— Цесаревна гостей стала принимать. Вчера приезжал из Москвы один из певчих ее и дольше часу в ее келье просидел.
Ермилыч переглянулся с Ветловым.
— Писаный красавец и с таким изрядным голосом, что весь монастырь привел в восхищение, — продолжал между тем Захар Карпович. — Однако игуменья вниманием к нему цесаревны смутилась и совет со старицами держала: доносить об этом по начальству или обойти молчанием?
— И что же решили старицы? — спросил Ермилыч.
— Решили пренебречь и не доносить, чтоб не разгневать свою именитую гостью. Ведь им чем дольше она у них поживет, тем выгоднее.
— А не слыхать, чтоб пожелала пострижение принять?
— Нет. Первое время поговаривала, что мир ей не мил без сердечного дружка, с отчаяния в монашеское платье оделась, ни одной службы не пропускала и никого до себя из мирских не допускала, ну а в последнее время видать, что затворничество начинает уж ей прискучивать, рясу сняла, прогуливается по монастырскому саду, поет… пока еще все больше божественное, но уж по всему видать, что скоро и мирскую песенку затянет. Нет, монахиней ей не быть, и вот увидите, что и в монастыре нашим святым матерям ее долго не удержать.
— А как того певчего, которого она к себе принимала третьего дня, звать? — осведомился Бутягин.
— Говорили мне, да я запамятовал.