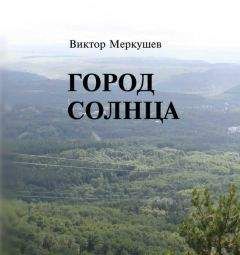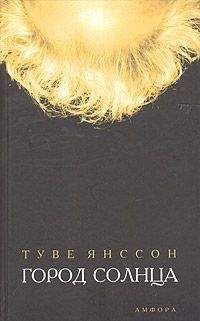Эрнст Саломон - ГОРОД
Иве сам удивился тому, как такое незначительное событие смогло перебросить его с одной колеи на другую. Этого единственного психического нажатия на рычаг хватило, чтобы переставить стрелку. Конечно, его частное столкновение со сложностями действительности ни в коем случае не вело также к частным выводам. Если бы Иве прошел школу психоанализа, то у него, может быть, была бы возможность в какой-то мере прямо-таки обижаться на Хелену за то, что она не совершила самоубийство. Он, хоть и не обиделся, все же, отстранился бы от нее ради своего удобства, чтобы смочь предоставить ее своей собственной судьбе с мучительной долей участия. Или же, если бы этот вид психической гигиены его не устроил, для него была бы открыта дорога откровенно признать свою ошибку, чтобы отныне с усердием посвящать себя благотворительной службе человечеству, начав со своих ближайших друзей, и таким образом вступить в мир благородных манер. Но Иве, к нашему сожалению, не склонялся к усваиванию необходимых знаний психической механики. Не то, чтобы он боялся какой-то механики, но он весьма невысоко оценивал ее значение. Например, он пребывал в прекрасной уверенности, что никто не мог бы превзойти его в обслуживании такого сложного аппарата, как, к примеру, пулемет. Он также видел в вышеупомянутом пулемете самое подходящее средство, чтобы справляться с целым рядом проблем времени, включая так называемый дух, и справляться самым экономным способом. Но речь у него вовсе не шла о проблемах времени, а о самом времени, если можно так выразиться. Речь у него шла о несущем фундаменте власти, за которую боролось время. И тот смешной случай в танцевальном зале и в дальнейшем в ателье уточнил ему, о чем шла речь. Уточнил, что это было. - Что дал мне город? - говорил он Шафферу, когда пришел к нему, чтобы попрощаться, - он ничего не дал мне, кроме задания. Скорее, он поставил мне это задание острее. И это уже много, это уже бесконечно много, - сказал он. И Шаффер был первым, который в этом согласился с ним. Шаффера также вовсе не удивило решение Иве покинуть город. - Конечно, так лучше всего, - сказал он задумчиво, и из того, что он говорил дальше, достаточно отчетливо следовало, в какой степени он понимал, что двигало Иве и не только Иве. - Все это подготовка, - говорил Шаффер и этим самым прекрасно попал в суть дела, и тихо вздохнул, потому что он в своем окружении желал бы, чтобы эта подготовка была несколько более приятной. На чем ином, это чувствовали оба, основывается империя, как не на шестидесяти миллионах психических укреплений? Для Иве акт психического укрепления, однако, точно в том пункте, который принуждал его, чтобы он покинул город, достиг своего окончания, так же, как начало этого акта лежало в принуждении войти в город. Впрочем, он не размышлял над этим, это для него было само собой разумеющимся. Хотя преувеличением было бы сказать, что для него это было само собой разумеющимся, так как он поддался какому-то таинственному принуждению, так как его двигало что-то, что было сильнее его, он вполне мог бы поступить иначе, он вполне мог бы решиться остаться у крестьян, и он не видел никакой веской причины возвращаться к ним, и, все же, он решился на этот раз. Он почувствовал точку нуля, и он собирался пройти ее, хотя никто, и он сам себя тоже, не мог бы его упрекнуть, если бы он решился остановиться еще до этой точки. Пришло время, говорил он, в этот, как и в тот раз, и это наше дело исполнить ценимый с давних веков долг летописца, не поддавшись ценимой с давних веков ошибке летописцев: а именно делать изображаемый объект правдоподобным такими средствами, которые не находились в распоряжении у самого этого объекта. Мы не можем описывать процессы над ведьмами и одновременно отрицать, что ведьмы существовали, и мы не можем притянуть за волосы ни комплекс матери, ни комплекс бабушки, ни еще какую-то другую составную часть всеобщего образования, чтобы показать, почему Иве покинул город, так как даже если сам Иве и владел этими вещами, то, все же, он, очевидно, ими не пользовался, и, что касается всеобщего образования, то он превосходным образом не пытался сделать из нужды добродетель, и не пытался особенно его устранить, для него ценность его должна была быть сначала доказана, и чтобы сделать это, владельцы этого ценного имущества казались ему совершенно неподходящими; он был не образованным, а обученным, и обученным по- военному, и след этого факта, слава Богу, никогда не стирался у него. С этим тесно связано то, что он никогда не считал себя готовым петь вместе с громко шелестящим хором, который упрекал национал-социализм как раз в недостатке того, на что сам национал-социализм никогда и не претендовал, а именно на то, что банкроты целого века от Жан-Жака Руссо до Эмиля Людвига, не учитывая различия их масштаба, понимали под «духом». Иве не вступал в этот хор, так как он всегда должен был спрашивать себя: «Си Ьопо?», кому выгодно, и если он не мог стать сторонником национал-социализма, то это случилось как раз не потому, что он мог обнаружить в нем слишком мало следов вышеупомянутого духа, а наоборот, так как для него вино Третьего Рейха имело, все же, слишком сильный привкус от пробки Второго. Ты ничего не понял, Хелена говорила Иве, когда он собирался убегать из общего вывода в частное решение, и последствие этого случая пояснило ему, что она подразумевала под этим. В действительности, она, как и Иве, находилась в таком положении, в котором больше не могло быть терпения, что Карл Маркс для своей области назвал социальным знахарством. Хелена вовсе не думала требовать какого-либо напряжения для себя лично, она была достаточной фигурой, чтобы привести собственное мнение в соответствие с требованием ее времени, и так как она была достаточной фигурой для этого, она могла и должна была требовать того же и от ее друзей. У нее было свое право, и она с болью видела, что Иве собирался отправиться для получения какого-то права для себя. Теперь Хелена требовала итога, и он подвел этот итог. И он обнаружил, что он мог сказать «да» городу, даже очень радостное «да», почти признание в верности. Потому что Иве, который прибыл в город, чтобы захватить его, который мечтал в своей камере в Моабитской тюрьме о новообразованных батальонах, которые должны были овладеть городом, но батальоны, которые действительно заново образовывались, и без его содействия, овладевали, самое большее, улицами города, Иве, который не имел бы ничего против того, чтобы благодаря чуду энергии, подготовки и случая попасть на ответственную должность обер-бургомистра - но он был любезен настолько, чтобы признать, что он даже тогда вряд ли смог бы сделать немного больше, чем длинный Генрих Зам - Иве, который был готов унести из города то, что он всегда только и мог отдавать - но более деятельные конкистадоры в своей области это тоже пытались, чтобы после приятных интермедий, пусть даже и не на слишком долгое время, не оказаться как раз в той же самой моабитской камере. Иве узнал в городе, что мог бы предложить город ему для его опыта, а именно - ничего. - Точно так, и это волнующе много, - сказал он доктору Ша- фферу, и тот со вздохами радовался смеющемуся познанию Иве, потому что ему и так уже надоело непрерывно в бешеном темпе топтаться на одном месте. - Ничего из опыта, - сказал Иве, так как то, с чем он встречался, лежало в нем самом, и если город действовал, то он действовал только давлением. Это давление перетряхнуло всего его внутри, и главным образом это показалось Иве настоящей функцией города: не в нем совершалась, но он осуществлял своеобразную сублимацию, в людях и в вещах, в пространстве и во времени. Город ставил под свое давление всю жизнь страны, и Иве узнал свое задание в то же самое мгновение, так как город формировал это задание и в сельской местности, и во всей стране. - Назад к крестьянам? - спросил Шаффер, но Иве защищался от слова «назад». Он начал прогрызаться сквозь весь город до его самого внутреннего ядра, и он нашел там землю, ту же сельскую землю в его самом внутреннем ядре. Он нашел это самое внутреннее ядро растительным, и он радовался животной радостью, так как узнал, что он пришел точно в ту же точку, которую покинул, когда отправился искать ее. Точно то же самое задание представлялось ему, только острее поставленное. И он вспомнил о том мгновении в редакции его крестьянской газеты, том мгновении осознания спиралевидного процесса, которому подчиняется жизнь. Город был жизнью, и он сам был жизнью, и на свете не существовало ничего, что не было бы жизнью, и каждое мнение могло придумывать десять новых мнений, каждое исключительно и весьма авторитетное, одно, вибрируя, сочеталось с другим, каждая аналогия была жива, и каждая мысль действовала в длину и в ширину, и лучшая формулировка была всегда первой, и она в то же время была и последней. Так как все действенные силы были ориентированы на последнюю действенную силу. И тут, если мыслить эпохами, ничего не могло повредить, конечно, это было даже необходимо, происходило в более глубоком смысле, что все-таки было шесть миллионов безработных, и Хелена надевала платье без рукавов, когда шла в редакцию, и забрасывала ногу на ногу, когда говорила с Якобзоном. Так, это никак не вредило? Это даже было необходимо? Это происходило, так сказать, в более глубоком смысле? Это были, во всяком случае, силы, который ориентировались на последнюю силу? Никак не вредило, что шесть миллионов медленно разлагались и опускались, что один сидит на другом, как лобковые вши в мешке, что они кусают и бьют друг друга, и дерутся, и оплевывают, и клевещут, что они пресмыкаются, и предают, и выделяют слизь и появляются сверху вниз, и снизу вверх, и справа налево, и слева направо, так как один должен утащить у другого хоть небольшой кусочек естественной потребности из голодной пасти и хоть небольшую надежность из усталой жопы, а в остальном все ли, собственно, там в достаточном изобилии? Даже необходимо, что крестьянский двор рушится, и зерно засыхает, а финансовое управление процветает, что крестьянин становится банкротом, и земля больших землевладений становится кислой, и где земля не проходит санации, там она заселяется, и поселенцы не могут ни жить, ни умереть, бедняги, и Клаус Хайм сидит в тюрьме? Это происходило в более глубоком смысле, что художник в отчаянной одержимости хлопает своими красками по холсту, и Хелена уходит и танцует с Якобзоном, и он трется своим животом по ее животу, и покупает картину, и продает ее, и у художника при этом еще есть необычное, прямо-таки свинячье счастье, что они тянутся по всем проселочным дорогам, молодые парни, коричневые лица, широкие руки, и руки открытые и пустые, сила, выброшенная в ничто, семя, посаженное в ничто, кровь, утихшая в ничто, и в кино они дают величие учиться танцевать, что одни говорят о кризисе и чрезвычайном постановлении и уменьшении вексельного портфеля Имперского банка, и другие не говорят ни о чем, они ждут, что камни заговорят, но камни тоже молчат, что это всегда доходит до того, пустые улицы и темные желания, пресса выделяет слизь, и саксофоны ревут, и одному дают субсидии, и другой едет с протянутой рукой на Александерплац, да, маленький человек, что дальше? и государство покупает обанкротившиеся гель- зенкирхские рудники, с девяноста процентами, не с пулеметными пулями, и город дышит с трудом, симфония работы, симфонии биржи труда, красноватый свет на небе над церковью Гедехтнискирхе, кто считает машины на площади Августа-Виктория-Платц, небо и ад и световая реклама, здесь еще последние свежие, зазывает Хиннерк, обещание в пустоту, развлечения ценятся, разочарование преследуемо, радость от страха, экстаз из малодушия, ну, малыш, как дела? ну, так, ничего, засранец, десятки тысяч внимательно слушают Гитлера во дворце спорта, десятки тысяч внимательно слушают Тельмана во дворце спорта, десятки тысяч внимательно слушают Лобе во дворце спорта, десятки тысяч следят за шестидневными велогонками во дворце спорта, всадники Апокалипсиса скачут по городу, голод, ложь и измена, в Женеве они несут чепуху, в Лозанне они несут чепуху, в Рейхстаге они несут чепуху, и ты тоже нес чепуху, Иве, Клаус Хайм не нес чепуху, крестьяне выбирают нацистов, и пролетарии выбирают коммуну, это единственное, что они могут выбирать, и выбирать - это единственное, что они могут делать, зарплата будет снижаться, противник будет снижаться, ты будешь снижаться, как я выживу за сто пятьдесят в месяц, как я выживу с сотней в месяц, как я выживу с пятьюдесятью в месяц, как я выживу вообще ни с чем, все идет к тому, в ландтаге они несут чепуху, в салоне они несут чепуху, в вечер оплаты счетов в кабачке они несут чепуху, ты тоже нес чепуху, Шаффер, ты тоже нес чепуху, Хелльвиг, ты тоже нес чепуху, Парайгат, с банкротства Венского кредитного банка это началось, это началось с «удара в спину», это началось с мировой войной, это началось с отставки Бисмарка, это началось с французской революцией, это началось с реформацией, с Адама и Евы это началось, когда, черт побери, это закончится? и верните нам наши колонии, мы не можем платить, и мы не хотим платить, и коридор - это культурный стыд, и присоединение Австрии запрещено, и русская пятилетка, и американское соглашение о долгах, и события в Маньчжурии, а Мемель- ский край в руках Литвы, и у кого есть деньги, сосед, лежит с твоей женой. Еще, однако, существует Бродерманн и он защищает спокойствие и порядок. Потому что, мысля в эпохах, все действенные силы направлены на последнюю действенную силу. Итак, это только тогда действенная сила, задуманная на целые эпохи, когда один встает, тут и там, когда ты встаешь, Иве, когда каждый встает, и говорит: «Хватит!» И говорит: здесь, теперь и со мной начинается новая эпоха. И хватается, там, где ему горит больше всего, и тогда он знает, что он должен делать. Что должен делать Иве? То, что я делал, Шаффер, прежде чем я приехал в город, точно это, и теперь уже зная, насколько это необходимо. Научил ли его этому город? Город подтвердил это. Так как город, который должен быть, показал ему, чего не должно быть. И он с благодарностью смотрел на то, как он жил в городе, почему он жил в городе. И если это была бесконечно запутанная и сложная паутина, сквозь которую он пробрался, ища, и спрашивая, и мысля, и говоря, до немногих, простых, ясных достоверностей, то теперь он уже из этих достоверностей смотрел на бесконечно запутанную и сложную паутину, с которой нужно было справиться с помощью действия. - Приступить к делу, - сказал он, и сделал обеими руками движение, как будто поднял плуг из борозды, хотя он ни в коем случае не думал работать как крестьянин, когда он шел к крестьянам. Потому что Иве не был крестьянином, Иве был солдатом; не был он профессиональным военным с двенадцатью годами обязательной службы и политически строго нейтральным и у него не было документа социального обеспечения бывшего военнослужащего, не был он и солдатом-штурмовиком с черными петлицами с номером и двухцветным шнуром по канту воротника, и с освящением знамени, и драками с коммуной, и с коричневыми брюками, которые снимаются на полицейском участке, а был солдатом в маленькой, разбросанной, анонимной, всегда готовой армии революции. Итак, все же? Разумеется, здесь мы, конечно, не делаем ее, мы уже и есть она. Неужели все же в нашем бедном, любимом отечестве никогда не должно быть спокойствия и мира? Нет, ради Бога, в нашем бедном, любимом отечестве никогда не должно быть спокойствия и мира. Должна ли тогда жестокая сила...? Как раз она, и тот, у кого она в руках, не может подчинить себя ей. Должен ли террор тогда, должен ли хаос тогда... все же? Совершенно верно, и те, которые применяют террор, которые создают хаос, не имеют права носить это в себе. Хочет ли этого нация? Никто не знает, чего хочет нация, чего она будет хотеть, однако, мы хотим нации. И кто такие мы? Мы, которые не хотим ничего иного, кроме нации, которые ничего другого не хотели в траншеях, и ничего иного у рабочих, и у крестьян ничего иного, на широких просторах страны ничего иного, кроме нации, и ничего иного в хаосе городов. Мы, это те, которые не признают никакого закона и обязательства как закона и обязательства нации, воли народа? Нашей воли к империи, мы, готовые отбросить любые заманивания и соблазны, все сопли о положении, и авторитете, и продвижении вперед, всю слизь хитрости, и унижения, и спрятанного за высокими словами о долге и ответственности дерьма, всю грязь необходимости жить и свыкаться. Народ хочет? Никто не знает, чего народ хочет, народ сам не знает, чего он хочет, но мы хотим. И если то, что придет, будет более горьким, чем четыре года войны и пятнадцать лет после войны, то спасибо нам за то, что мы решились на это, и если это не будет более горьким, то вновь спасибо нам за то, что мы решились на это. Потому что тут больше не размахивают программами, здесь больше не предлагаются на продажу никакие готовые решения, но там, где есть сила, там мы хотим добавить еще из нашей силы, и там, где силы нет, там мы хотим отнять то, что еще сохранилось. У крестьян еще есть сила, и у рабочих она есть, так как одни должны потерять все, что дает им ценность, и другие должны завоевать все, что дает им ценность, но нам нечего терять, кроме веры в империю, и нечего завоевывать, кроме нации, и раз мы призваны, то от нас зависит - быть избранными. Ибо речь идет сегодня о решениях, о движениях, которые каждую секунду несут в себе новые решения, так как империя открыта как пашня, она готова принять любое семя, и это наша задача позаботиться о том, чтобы не появился дьявол и не засеял ее сорняками и чертополохом, это наше дело позаботиться о том, чтобы каждое решение ориентировалось на империю, и то, что мир дает ей, она, трансформировав, возвращает миру. Не то важно, что двигается во всех частях земли, а то, что каждое движение в нас узнает свой очищающий смысл, и что мы готовы действовать в нем. Это значит, что мы выходим из протеста и входим в фазу созидания: что каждая форма протеста, в какую бы одежду она ни облачалась, будь то избирательный бюллетень или коричневые брюки, происходит вне истинной сферы решения, что любая система может быть призвана, самое большее, для того, чтобы аккумулировать временные явления и не давать действительную точку ориентации, причем опасность кроется в том, что через системы движение, совсем не замкнутое, приводится в такое состояние, которое совсем еще не может быть прочным. Если империя вечна в своей силе, то история - это перемена ее форм, и теперь и сегодня нужно искать ту форму, которая лучше всего соответствует настоящему содержанию. То, что национал- социализм может дать такую форму в столь же малой степени, как и какая-либо система, которая опирается на забытые или неверные принципы, уже доказано последовательностью процесса его становления: полезно сосчитать не то, что он оставил открытым, а то, что он преградил. Без сомнения, национал- социализм выполнил некую историческую миссию, он довел до абсурда демократию, без сомнения, с исполнением этой миссии также и его собственная сила лишилась обоснования. Позитива революции еще нет, вместе с тем и немецкая революция сама еще не состоялась. Не будем заблуждаться относительно того, что она, насколько она ориентируется на новые формы, имеет свои элементы в общественном. У нас, как и во всем мире, речь идет о том, чтобы сломить господство буржуазного, у нас еще больше, чем во всем мире, становится ясно, что буржуазное как форма господства, как она была найдена, является не немецкой, а западной, что революция против буржуазного, стало быть, и является немецкой революцией. И как раз это заставляет нас поторопиться: устранение положения, которое стало невыносимым, так как оно даже больше не будит плодотворную силу сопротивления, и так как действительно в тот момент, когда мы проникнуты необходимостью действия, это может быть только немецкая революция, для которой мы можем действовать, задание остается только за революционерами, и ни за кем другим: за теми, которые уже осуществили революцию в себе, - и совсем не раньше; так как какая нам польза от того, что мы вооружены до зубов, если мы так же не вооружены в сердце? Потому что, конечно, все равно, из какой точки наносится удар, если только он не висит в безвоздушном пространстве. У масс самих по себе нет вдохновения по собственному почину, и там, где они в осознании своего положения хотят организовать революцию, они организовывают бюрократию. Только немногие, в чьей силе они нуждаются, дают им ее. Но для них должны быть важны властные позиции, а не точки зрения, и таким образом каждый из них может искать себе ту готовность, на которую он опирается, и из которой он может действовать: Я нахожу ее у крестьян, - говорил Иве, - как я там сам уже нашел ее. Иве говорил: - Империя не будет землей крестьян, но земля своими ежедневными требованиями превращает мистическое сознание в реальность. И эта реальность упорядочивает общество: крестьянство несет в себе единственную естественную форму общественного порядка, и поэтому оно должно быть толчком и образцом, если мы спрашиваем об этих формах. - Я знаю, что вы хотите сказать, Шафер, - сказал Иве, - но плановое хозяйство само по себе тоже не справится с этим, даже если оно, конечно и не навредит, и жизненно важные интересы не существуют нигде, кроме как в мозгах юрисконсультов. Нас еще не обманули относительно того, что дает нам смысл жизни, и мы не готовы позволить себя обмануть, как нас обманули во всем, в чем нас всегда можно было обмануть. То, от чего все зависит, остается, и это бесспорно, спасибо нам, что это бесспорно. Так как наша судьба лежит не в конференции за круглым столом, и не в рабочей комиссии Рейхстага, и не в наблюдательном совете концерна А.Е.С., а в нашей собственной груди, в груди людей, которые не только знают, что они хотят, но и умеют делать то, чего они хотят. Вы хотите знать, что нужно делать, для вас и для меня? Вы не видите лес знамен за отдельными знаменами? Мне нужно вытащить из портфеля систему и схему какой-то империи? Мне вам прямо тут, в доме на углу Курфюрстендамм и Йоахимсталер штрассе, нужно нарисовать план, начиная от двора, через общество взаимопомощи до провинции? Начиная от кооператива через союз до совета по сельскому хозяйству? Начиная от текущего счета крестьянина через накопление финансовых институтов до государственного бюджета? От экономических подсчетов предприятий через авторитет государственной экономики до, так сказать, централистского федерализма экономики, и земель, и кооперативов? Должен ли я перечислить вам прямо тут статьи конституции, структуру государственной организации, сущность таможенных договоров, монополий, банковской политики, кассового плана, платежного оборота? Вы знаете, что не это нужно, теперь и здесь, но что нужно убрать все преграды и трудности, которые лежат в структуре экономики и общества на пути любого экономического плана, и так быстро как только возможно; что нужно идти от человека к человеку, от двора к двору и делать их готовыми ко всему, что послужит нации, и делать невосприимчивыми против всего, что рассказывают сотни тысяч охотников за личными интересами; что для нас, которые вооружены в сердце, нужно теперь еще вооружиться и до зубов. Я иду к крестьянам, Шаффер, не потому, что меня привлекает свободный воздух болотистых маршей, а потому что я знаю, что в них покоится самая сильная сила страны; потому что я знаю, что только эта сила может быть мобилизована, теперь, сегодня и сразу, и они уже приходят со всех сторон со своими уловками, с быстро продуманными миллионами шелестящих документов, чтобы аккуратно направить воду на их работающие впустую мельницы; так как я знаю, что город - это функция земли, страны, а не ее крупного акционера; так как я знаю, что, если теперь и сегодня крестьянин не встанет в стране, то придет день, когда мы не сможем больше встать и собраться ради империи, а будем разбивать друг другу черепа ради одного кусочка земли, ради узкого угла бедной, разоренной, презираемой крестьянской земли.