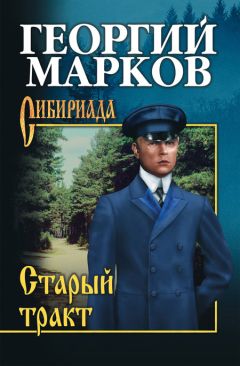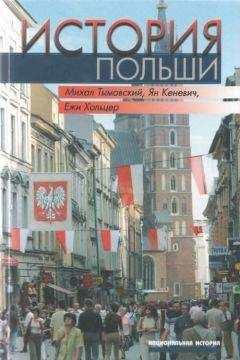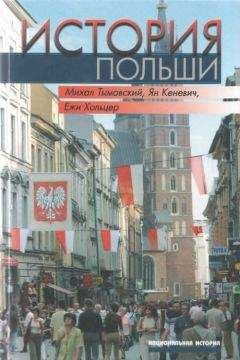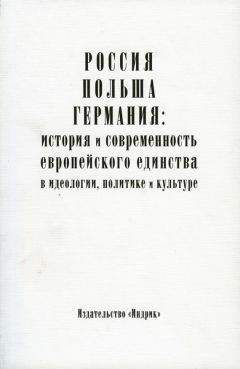Георгий Марков - Старый тракт (сборник)
— Исправно! Исправно, согласно царскому закону.
Вечер опускался на Барабу ласковый, теплый, с запахами изобильных трав, вступивших в пору своего созревания, со свистом крыльев утиных стай, спешащих на ночевку на бессчетные барабинские озера.
2
Томск удивил Шубникова. Старший приказчик, привыкший к шуму и многолюдию Москвы и Петербурга, полагал, что будет жить отныне в деревне, ну если не в деревне, то по крайней мере в селе, на манер волостных станиц и поселений Верхнего Дона, в лучшем случае.
А тут, на тебе, — город! Да еще какой! И там и тут сияют золотыми маковками церкви и соборы, главная улица — Почтамтская, почти вся из каменных зданий — одно солиднее другого, пристань забита кирпичными пакгаузами, дебаркадерами, белобокими пароходами. Куда ни кинь глаз — магазины, ресторации, трактиры. Базарная площадь кишит с утра до ночи многоликой толпой. Кого тут только нет. Купец купца погоняет; чиновники в форменных мундирах и картузах, как гусаки с вытянутыми шеями, зырят туда-сюда; крестьянский люд на телегах с разной снедью, а в устье речки Ушайки, на берегу и в лодках, охотники и рыбаки с боровой и водоплавающей дичью, с рыбой на любой вкус: чебак, щука, окунь — для простонародья, а для тех, кто побогаче, — муксун, нельма, стерлядь, осетр.
Чего нет — так это фруктов, но зато ягод красно и сине — земляника, черника, голубика, брусника. Хочешь бери на вес, а хочешь целиком с посудой — корзины, березовые с росписью туеса, кадушки из кедровой плашки.
Медов всяких: сотовый, корчажный, свежий, только из улья или перезимовавший с засахарившейся крупинкой, нанесенный пчелой с гречихи, с кипрея, с лугового многоцветья. Сладкий запах от медов разливается по всему базару, аж голова кружится.
Шубников поколесил между лавок и телег, порасспросил что почем, про себя подивился: несравнимо все дешевле, чем там, в России. Вот тебе и Сибирь!
А уж как его пугали: хлеб там только ржаной, овощ растет не всякий, солнечного тепла не хватает, скот малорослый, малоудойный, коровье молоко как вода безжирное, кормов, что летом, что зимой, в обрез, да и то осока да камыш.
«Как уж люди страхи нагонять любят, как охочи до всяких придумок», — шептал про себя Шубников.
Зашел он в магазины и лавки городских товаров. И тут полки от добра ломятся: ситцы и шелка чуть не со всего белого света — японские, китайские, корейские, индийские, с Явы, с Формозы, с Цейлона. Обувь — мало что петербургская, изволь на любой фасон из самого Парижа, а пальто, костюмы, дамские наряды — из Англии, из чистой манчестерской шерсти, из Египта, из отборного длинноволокнистого хлопка, ковры из Персии, из Турции, из Дамаска и Багдада…
«Разворотлив сибирский купец, смекалист, удачлив, не сидит сложа руки, не ждет у моря тихой погоды», — думал Шубников.
Но больше всего удивил Шубникова университет, окруженный роскошной рощей, с извилистыми, посыпанными красным песком дорожками.
Макушин, отдавший Томску не только много средств, но и душу, пожелал сам сопроводить Северьяна Архиповича в эту часть города.
Они сели в пролетку купца и покатили к университету. Пока ехали от Ушайки, от торгового дома купца Второва, Макушин кивал мохнатой головой то налево, то направо: с тротуара улицы его приветливо поздравляли с возвращением из очередной поездки в Петербург и Москву знатные томские аборигены.
Среди богатых людей города Макушин со своим капиталом занимал далеко не первое место, самые состоятельные люди были владельцы приисков, нажившие огромные деньги на промысле золота. Но уважение к Макушину горожан превосходило всех остальных купцов. Каждый житель города понимал, что капитал Макушина имел происхождение чисто, так сказать, благородное, и невозможно было представить его имя замешанным в какой-нибудь афере, которые совершались с купцами чаще, чем, к примеру, Томск посещало великое наводнение, вызывавшее столь же общее возбуждение. Главный университетский корпус как белый лебедь в дреме: крылья раздвинуты на полный размах, а гордая голова приподнята и замерла в загадочной задумчивости.
Что-то есть в здании, в его парадном фасаде величественное, напоминающее дворцы царей и их приближенных, поставленных на века.
— Как в столице! Нет, лучше! — восхищенно воскликнул Шубников.
— А вот в этом здании, Северьян Архипыч, — книги. Можно сказать, тут источник света, — торжественно проговорил Макушин и вытянул руку в сторону университетского книгохранилища. — А пройдет еще годок-второй, новое здание будет возведено. Вот здесь, вдоль улицы.
— Томск — точно сибирские Афины, Петр Иваныч. Не ожидал, не догадывался! Коленопреклоненно думаю о сибирских людях, воздвигнувших сии чертоги. И где?! В далекой стране холода и мрака.
— Ах, Северьян Архипыч, насчет холода и мрака уж такое преувеличение, право же это не так. Вот поживете, увидите, сами станете поборником Сибири, ее расцвета. Нет-нет, Томск счастливое место на земле, по крайней мере, для тех, кто хочет добра людям.
— Уж как вы любите сей град, Петр Иваныч! Вам бы о нем стихами молвить…
— Хорошо бы! Да Бог таланту не дал, Северьян Архипыч, а без таланту поэзия, как день без солнца.
Они неспеша обошли вею университетскую рощу, осмотрели стеклянные павильоны недавно законченного ботанического сада. Никто им не мешал. Студенты были на летних вакациях, а профессора кто где: одни в отпусках на водах Европы, в интересах личного здоровья; другие — в дальних путешествиях по Сибири в поисках тайн, закованных в недрах.
В двух местах из-за черемуховых кустов выглянули недреманные служители, настороженно оглядели путников, но, увидев Макушина, скинули картузы, отвесили земные поклоны и скрылись в ветках.
— Мир вам и благоденствие, добрые люди! — ответил Макушин, приучив себя почитать каждого человека независимо от ранга и чина.
Когда они сели наконец в пролетку, Макушин сказал ямщику:
— Довези-ка нас, Ермолаич, до Лагерного сада, пусть-ка Северьян Архипыч посмотрит на наши красоты.
Застоявшийся жеребчик в серых яблоках по бокам рванул пролетку, перешел на быструю рысь, и хоть впереди предстояло одолеть довольно изрядный подъем, жеребчик не сбавил бега.
По прямой улице, застроенной новыми каменными и бревенчатыми домами, они выехали за город и углубились в березняк. Березы были как на подбор, — белоствольные, прямые, кудрявые. Деревьев, как-либо покалеченных ураганами или с обломанными сучьями, не сыщешь. Земля между березами прибрана — кое-где вскопана, а кое-где, наоборот, примята, трава тоже ухожена, подсеяна, прочесана с осторожностью граблями.
— Сей парк, Северьян Архипыч, гордость томичей. Название ему — Лагерный сад.
— Почему Лагерный, Петр Иваныч?
— А потому, что до сей поры воинские команды становятся здесь в летнюю пору на лагерное обучение. Да, впрочем, места и им, и обывателям вполне хватает, но и те и другие страшно любят обитать тут и берегут каждую травинку, каждую веточку.
— Уж как похвально этакое усердие, Петр Иваныч!
Вдруг березняк будто расступился и пролетка остановилась на круглой, как колесо, площадке.
Отсюда открывался такой завораживающий вид, что старший приказчик и рта не мог открыть. Он стремительно вскочил с пружинного сиденья пролетки, вскинул руки над головой и на минуту застыл как окаменевший. В десяти шагах от пролетки берег круто обрывался, изгибаясь подковой и посверкивая просинью яра.
У основания берега, покрытого разноцветной галькой, струилась прозрачная до самого дна упругая вода, отливавшая аквамариновой подсветкой. Река текла уверенно, величаво. Противоположный берег курчавился оторочкой из тальниковых и черемуховых кустов, а за ними во всю богатырскую ширь, на всю глубину человеческого взгляда растекались ровные, без единого холмика, зеленеющие луга. Голубизна неба и мерцающий разлив лугов сливались где-то воедино, образуя загадочное царство простора, как бы осененное божественным спокойствием и благолепием. Только далеко-далеко, чуть просматриваясь, чернела полоса, отсекавшая землю от неба. Отсюда начинались знаменитые томские хвойные леса — кедровые дачи, корабельные сосновые боры, непролазные пихтовые и еловые чащи.
— Любезный Петр Иваныч! Какие же чудеса сотворил Господь Бог на утеху людям! — воскликнул наконец Шубников, втягивая дрожащими ноздрями пьянящий запах реки и лугов.
— Э, и вас, Северьян Архипыч, тронуло! Никто еще, ни один человек, не оставался на этом берегу равнодушным… А вы говорите — Сибирь — хлад и мрак. — Макушин хитренько сощурился, поглаживая длинную пушистую бороду.
— Да, Петр Иваныч, да! Бараба удивила меня, а Томск ошеломил, пронзил душу насквозь, — бормотал Шубников, неловко взмахивая руками.
— Ну и пусть поживется вам на славу здесь, Северьян Архипыч, пусть! Добра и счастья вам — сто коробов!