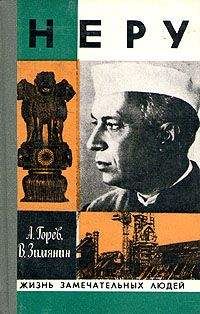Теодор Парницкий - Серебряные орлы
Желая говорить с Аароном совершенно искренне, папа не хочет скрывать, что этот возможный враг способен угрожать империи не обязательно извне: пример тому бунты в Романьи, в Тусции, в Королевстве Италии. Зачем же тешить себя иллюзиями, что бунты не могут вспыхнуть и в других частях империи. А страх перед венграми может подавить не один бунт в зародыше. А уж появление их на земле бунтовщиков и вовсе. Правда, это последнее не по сердцу папе, и он все еще молит бога, чтобы можно было обойтись одним запугиванием.
Конечно, куда лучше дать корону обоим князьям. Тогда это не оскорбило бы Болеслава, дружбу которого император всегда тем не менее будет ценить, невзирая на то, может ли использовать ее выгодно для себя. Но обоим, к сожалению, невозможно. Могущественные имперские ленники в Баварии и Саксонии вообще против всякой коронации негерманских князей, а с ними сейчас следует считаться куда больше, чем когда-либо. С трудом вырвали у них согласие на одну коронацию, причем те подчеркивали, что предпочитают видеть королевскую корону на голове Стефана, нежели Болеслава.
— Ты не спал, Аарон, потому что думал о несправедливости, совершенной по отношению к Болеславу. Это верно, он будет чувствовать себя оскорбленным. Но слушай, сын мой, внимательно. Опуская все, что я тебе доселе сказал, еще и другие важные причины склонили меня отказать Болеславу в короне. Я прямо сказал государю императору, что против того, чтобы патриций, первое после Цезаря Августа лицо империи, получил королевское помазание. Сила империи зиждется на ее единении и сплоченности, а королевская корона у того, кто ее носит, ослабляет чувство связи с целостностью империи. Разве король западных франков или английский король Этельред обладают этим чувством? Наоборот, они вовсе не признают главенства над ними императорского величества, хотя церковь по сей день поучает, что и в мирских делах должна быть одна паства и один пастырь. Так что, получи Болеслав корону, он быстро утратил бы чувство неразрывной связи своего могущества с могуществом империи. А государь император отнюдь этого не желает. Да и я полагаю, что большее благо и честь для Болеслава быть римским патрицием, чем королем варваров. Серебряные орлы значат больше, чем корона польского королевства. Посланцам его, неотесанным варварам, пришлось дать другой ответ, потому что того, что я тебе сейчас говорю, они не поняли бы и очень бы отчаивались, а Болеслав поймет.
— А можно мне задать вопрос, святейший отец? — вновь, зарумянившись, спросил Аарон.
— Спрашивай что хочешь.
— Не разгневайся на меня, святейший отец, но я вспоминаю, как ты сказал когда-то, что Болеславу обязательно надо дать корону, потому что большая честь для империи, когда ее патриций — помазанник божий. Тогда ты еще изволил добавить, что это было бы поучительным примером для других королей — тех, которые не хотят признавать над собой главенства государя императора.
Папа посмотрел на Аарона с улыбкой искреннего восхищения.
— Быть тебе когда-нибудь архилоготетом, канцлером империи, это я тебе предсказываю. Ты знаешь, что то же самое, именно этот вопрос задал мне император? Я сказал, что действительно говорил такое, потому что тогда думал так. А сейчас думаю иначе. Так и должно быть. Плохо было бы, если бы бег нашей мысли не поспевал за бегом времени. Тогда я был бы просто камнем, а не человеком.
— Государь император, — продолжал Сильвестр Второй после короткой паузы, — не сразу согласился. Несколько недель он был полон гнева, сожаления и почти отчаяния. Он полагал, что, отказывая Болеславу в короне, оскорбляет не только друга, но божие величие, совершает тяжкий грех. Теперь он так уже не думает. Его успокоил отшельник Ромуальд во время вчерашней исповеди.
Аарон чуть не вскочил со скамьи. Значит, император все-таки направился к пустыннику Ромуальду? И вернулся? Аарон был уверен, что уж кто-кто, а Ромуальд, когда начнет исповедовать императора, сумеет сделать с его душой все, что захочет. Почему же он не оставил его в своей обители? Ведь еще так недавно он грозил ему божьим гневом за несоблюдение обета.
И еще подумал Аарон, что, видимо, точно так же, как после той исповеди в Латеране, год назад, Оттон и сейчас имел с папой длинный разговор. Откуда иначе папа мог знать, что Ромуальд говорил императору?
— Ромуальд сказал, — продолжал папа, — что патриций Болеслав не заслужил королевской короны, поскольку не является справедливым человеком, ведь он же лишил своих братьев отцовского наследия.
Аарон не верил своим ушам. С изумлением убедился он, что Болеслав Ламберт и в самой суровой обители не отказался от намерений вернуть утраченное наследие. И подумать только, даже Ромуальда, которого, с тех пор как он заточил себя, никогда не касались никакие дела мира сего, Болеслав Ламберт сумел заинтересовать судьбами своего наследства. Кто бы ожидал такой находчивости в этом исподлобья поглядывающем неулыбе!
Аарон робко спросил папу, не вернулся ли Оттон к мысли уйти в пустынную обитель.
— Ну конечно же! — улыбнулся папа. — Торжественно поклялся Ромуальду, что сразу, как только войдет в Рим, снимет с себя диадему и пурпур. Повторил мне эти слова со слезами. И еще добавил, что мне не удастся поссорить его с Болеславом. Что именно патрицию, как он и ранее намеревался, передаст императорскую власть и таким образом получит от него прощение за отказ в королевской короне.
Аарон тоже улыбнулся. Он знал так же хорошо, как и папа, что Оттон никогда не откажется от власти, никогда не уйдет в обитель. Теперь он был в этом уверен. Сейчас убедился, хотя папа пытался ему доказать это еще год назад, в ту памятную ночь накануне восшествия императора на Капитолий.
Сказал ему еще тогда, как только вошел в спальню. Еще не замерли шаги Оттона, которые наконец-то дали знать ожидавшему в колоннадной галерее Иоанну Феофилакту, что сейчас они трогаются. Аарон хорошо это запомнил. Как и то, что за словами Сильвестра Второго последовала улыбка.
— Не удивляйся, — сказал он, — что я говорю с тобой о том, что ты услышал два часа назад на исповеди. Государь император повторил мне все, в чем признался тебе. Оказалось, что мы вместе его исповедали. Закончить исповедь должен был я.
В голосе папы, когда он произносил это, звучало нечто большее, чем настоящая отцовская сердечность. Искренняя растроганность.
— Ты не разочаровал меня, сын мой. Наоборот, удивил меня. Ты сумел сделать больше, чем я от тебя ожидал.
Он присел на мягкое кресло. Аарон устроился у его ног. Рука папы ласковым движением погладила рыжую голову молодого пресвитера.
— А я думал, святейший отец, — прошептал Аарон, — что оказался недостоин твоего доверия. Я показался себе незадачливым охотником, который заблудился в чаще и потерял оружие.
— Нет, Аарон, ты отлично преследовал выслеженного зверя. Но скажу тебе искренне: ты не поспевал за гончим псом, которого пустил по следу. Из того, в чем признался мне император, я понял, что ты впопыхах перепрыгнул через то обстоятельство, которое определило дальнейший ход исповеди.
Аарон поднял к папе удивленные, даже испуганные глаза. Что же это за обстоятельство, через которое он перескочил?
А это была история с ранением франкского центуриона. Если бы Аарона не донимала тогда так сильно тайна казни Кресценция, он бы своими ушами услышал обо всем, что выследил Оттон в тайниках своей души, углубляясь в обстоятельства, приведшие к ранению центуриона. Он сразу бы понял, из-за чего так страшно исказилось лицо Оттона, покрылось смертельной желтизной.
Судорожно рыдая, пряча голову в колени папы, Оттон каялся в том, что ввел, хотя и невольно, в заблуждение исповедника. Нет, вовсе не угодные господу побуждения руководили императором, когда он бросился с мечом на центуриона, ведущего свой отряд на Альбанское озеро. Не потому ненавидел Оттон совместное омовение, которое, как он считал, порождает разврат, оскорбляет христианскую чистоту. Страх, а не набожность — источник этой ненависти. Страх, что повторится то страшное унижение, которое он изведал в Арнебурге много-много лет тому назад.
В жаркий летний день саксонские вельможи пригласили императора на совместное купание. Повезли его на Эльбу, где любил купаться Оттон Рыжий. Император сначала упирался. Ведь мать так часто наставляла его, что недостойно священному величеству бесцеремонно обнажаться на глазах у подданных. Но солнце так жарило, так манила прохлада воды. При этом Дадо, которому он признался, почему так сопротивляется, сказал сурово и почти презрительно: «Когда ты среди пас, господин наш Оттон, ты не Цезарь Август среди ничтожных подданных, а предводитель дружины среди благородных товарищей». Семнадцатилетний Оттон растерялся. «Если отец купался с ними, то, наверное, и мне можно», — подумал он со вздохом. Разделся и вошел в воду.