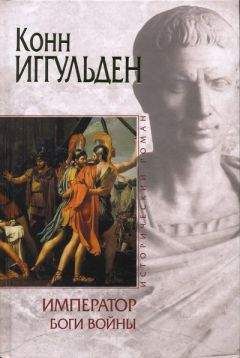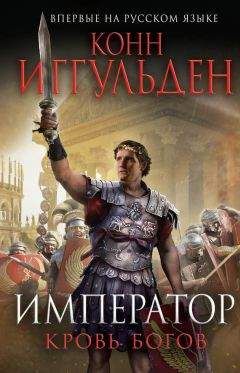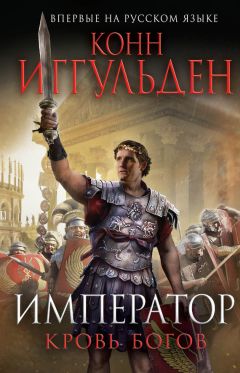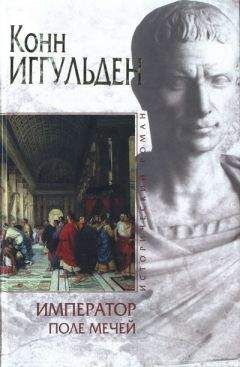Виктор Гюго - Девяносто третий год
Вот как был поставлен вопрос в душе Говэна в то время, когда в ней происходила эта трагическая, внутренняя борьба. Ответ, казалось, напрашивался сам собой: нужно спасти Лантенака.
А Франция? — Здесь эта задача внезапно принимала иную форму.
Как, в то время, когда Франция находилась в опасности, когда она подвергалась со всех сторон агрессии многочисленных врагов, когда границы ее были открыты, когда Германия шагала через Рейн, Италия — через Альпы, Испания — через Пиренеи, когда только с одной стороны она была надежно защищена бездной океана, когда она, прислонившись к нему, опираясь на него, еще могла продолжать борьбу, когда она занимала еще это неприступное положение, — неужели в это- время у ней вдруг отнимут и эту последнюю точку опоры? Правда, на этом океане была она не одна, но и Англия. Но пока Англия не знала, как перебраться через этот океан на сушу. И вот находится человек, который желает перекинуть мост через океан, протянуть Англии руку, человек, который собирается крикнуть всем этим Питтам, Крэгам, Корнваллисам, Дундасам, всем этим морским разбойникам: «Идите сюда! Англия, бери Францию!» И человек этот не кто иной, как маркиз Лантенак!
И человек этот в его руках! После трехмесячной облавы и травли его наконец удалось захватить. Рука революции наконец опустилась на плечо этого опаснейшего врага; кулак 93 года схватил за шиворот этого убийцу-роялиста; по какому-то таинственному велению свыше, так часто вмешивающемуся в людские дела, этот отцеубийца ожидал теперь должного возмездия в своей собственной семейной темнице; представитель феодализма сидел в феодальном застенке; камни его собственного замка заграждали ему выход из него, и тот, кто намеревался предать свою родину, был предан своим же домом. Во всем этом очевиден был перст Божий. Час возмездия пробил; революция взяла в плен своего заклятого врага; он уже не мог более сражаться, бороться, вредить. Во всей Вандее, где было столько рук, он был единственной головой; когда он сойдет со сцены — война закончится. Теперь он схвачен, — трагическая и счастливая развязка; после стольких убийств он, виновник этого кошмара, был здесь, и теперь наступила его очередь умереть. Неужели найдется кто-нибудь, кто его спасет?!
Симурдэн, то есть 93 год, держал в своих руках Лантенака, то есть монархию. Неужели найдется кто-нибудь, кто вырвет эту добычу из этих железных клещей? Лантенак, олицетворение всех зол прошлого, лежал уже в могиле, тяжелая дверь вечности захлопнулась над ним, — и вдруг кто-то придет извне и отодвинет задвижку! Злодей умер, и вместе с ним умерли восстание, братоубийство, зверская война, — и вдруг кто-то воскресит их!
О, как захохочет эта мертвая голова! С какой насмешкой этот призрак скажет: «Прекрасно, вот я и ожил, глупцы!» С каким усердием он вновь примется за свое отвратительное дело! С какою радостью Лантенак снова окунется в бездну междоусобия и ненависти! Назавтра же снова запылают дома, снова начнут пытать пленных, добивать раненых, расстреливать женщин!
И все же Говэн не преувеличивал смысла и значения того поступка, который так взволновал его. Трое детей погибали, Лантенак спас их. Но кто же их чуть не погубил? Не сам ли Лантенак? Кто поставил их колыбельки среди горящего здания? Разве не Иманус? А кто такой был Иманус? Разве не клеврет Лантенака? Ответственность, естественно, падает на начальника. Значит, поджигателем и убийцей был Лантенак. Что же он такого сделал необыкновенного? Он не пожелал настаивать на своем злодеянии, — вот и все. Задумав и затеяв преступление, — он отступил в последний момент, когда оставалось его осуществить. Оно ему самому внушало ужас. Крик матери пробудил на дне его души остаток сострадания, этот отклик гуманности, существующий во всякой душе, даже в самой преступной. Услышав этот крик, он одумался; из тьмы, в которую он собирался окунуться, он снова вышел на свет. Совершив преступление, он постарался его загладить. Вся его заслуга заключалась в том, что он не остался чудовищем до конца.
И из-за этой-то незначительной заслуги возвращать ему все! Возвращать ему простор, поля, долины, воздух, свет, возвращать ему лес, которым он воспользуется для разбоев, возвращать ему свободу, которою он воспользуется для порабощения, возвращать ему жизнь, которою он воспользуется для новых убийств!
Если же сделать попытку войти с ним в соглашение, если вступить в переговоры с этим надменным человеком, если предложить ему свободу на определенных условиях, если спросить его, согласится ли он, взамен предоставления ему жизни, навсегда отказаться от бунта и от всяких враждебных действий, — то это было бы лишь величайшей ошибкой, громадным данным ему преимуществом; ответом на такие предложения мог бы быть только презрительный, высокомерный его ответ: «Оставьте позор себе! Убейте меня!»
Действительно, с таким человеком не оставалось делать ничего иного, как или убить, или освободить его. Это был человек-кремень, не знавший компромиссов: или все, или ничего; или орлом воспрянуть вверх, или низвергнуться в бездну. Это была трагическая душа.
Убить его? — какой позор! Освободить его? — какая ответственность! Раз Лантенак будет на свободе, с Вандеей придется начинать все сначала, точно с гидрой, до тех пор, пока не будет отрублена ее голова. Моментально, с быстротой молнии, вновь разольется пламя, которое с удалением со сцены этого человека должно потухнуть. Лантенак не успокоится до тех пор, пока не осуществит свой ужасный план, то есть пока он не прикроет, точно гроб крышкой, Францию Англией, а республику — монархией. Спасти Лантенака значило принести в жертву Францию. Сохранить жизнь Лантенаку значило обречь на смерть тысячи невинных людей — мужчин, женщин, детей, значило снова зажечь пламя братоубийственной борьбы; это значило подготовить высадку англичан, затормозить революцию, разрушить города, растерзать народ, залить кровью Бретань, возвратить дракону его добычу. И Говэну среди бесконечных переливов света и тени ясно предстала одна картина: освобождение тигра — и вопрос снова встал перед ним в своем первоначальном виде, и сизифов камень внутренней борьбы человека с самим с собой вновь покатился вниз.
Значит, Лантенак был тигр? Но, быть может, он был им прежде, а теперь уже он не тигр? Течение мыслей Говэна приняло форму спирали. В самом деле, разве даже при самом тщательном обсуждении можно было отрицать самоотверженность Лантенака, его стоическое самопожертвование, его благородное бескорыстие? Как! В виду всех ужасов гражданской войны выказать такое человеколюбие! Как! На фоне столкновения всевозможных низостей явиться выразителем высшей истины! Как! Явиться воплощенным доказательством того, что выше королевской власти, выше революции, выше земных треволнений стоит чуткая человеческая душа, подсказывающая, что сильный должен защищать слабого, что спасшийся должен спасать погибающих, что старик должен по-отечески относиться ко всем детям. И доказать все эти высокие истины — ценой своей головы! Как! Будучи полководцем, отказаться от борьбы, от сражений, от возмездия! Как! Являясь роялистом, взять в свои руки весы, положить на одну их чашу короля Франции, пятнадцативековую монархию, восстановление старого порядка, спасение старого общества, а на другую — трех каких-то крестьянских ребятишек, и прийти к выводу, что король, престол, скипетр, многовековая монархия перевешиваются этими детьми! Как! Неужели все это ничего не значит? Неужели тот, кто все это сделал, останется тигром и с ним будут обращаться, как с диким зверем? Нет, нет, нет! Не может быть чудовищем тот человек, который только что озарил светом божественного поступка мрачную бездну гражданских войн! Меченосец преобразился в светоносца; адский сатана снова стал светлым Люцифером. Лантенак искупил все свои варварские поступки одним самоотверженным подвигом. Губя свое тело, он спас свою душу; он снова сделался невинным, он сам подписал свое помилование. Разве не существует право самопрощения? Отныне он стал достойным уважения.
Лантенак только что стал выше общечеловеческого уровня. Теперь очередь сделать то же самое наступила для Говэна. Борьба благородных страстей с дурными производила в те времена всеобщий хаос. Лантенак, возвышаясь над этим хаосом, видел из него начало человечности; теперь Говэну предстояло выделить из него семейное начало.
Что же ему оставалось теперь делать? Неужели он обманет доверие Провидения?
Нет! И он сам себе говорил:
— Нужно спасти Лантенака.
«Прекрасно! — шептал ему какой-то другой голос. — Значит, ты намереваешься действовать на руку англичанам? Что ж! Дезертируй, переходи на сторону неприятеля! Спасай Лантенака, изменяй Франции! Твое решение безрассудно, мечтатель!»
И Говэн дрожал, видя перед собою сквозь тьму улыбку сфинкса. Вообще ему казалось, будто он оказался в каком-то тупике, в котором сталкивались самые противоположные истины, не находя из него выхода, и в котором уставились друг в друга глазами три самые высокие для человека идеи — человечность, семья, Родина.