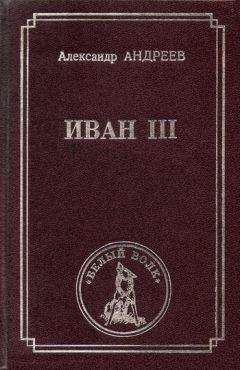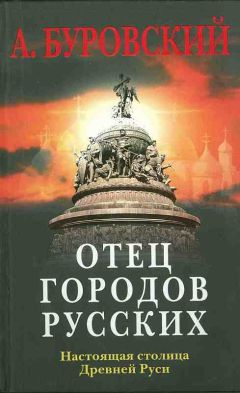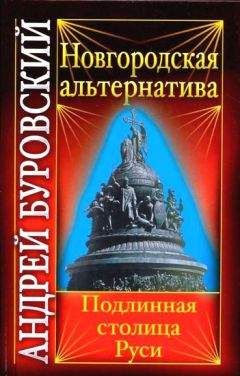Натан Рыбак - Переяславская рада. Том 2
Да, многое знает Сефер-Кази. Его глаза далеко видят, а уши хорошо слышат; лишь один раз за шесть лет с тех пор, как он стал визирем, Сеферу-Кази изменили глаза: того, что произошло в Переяславе, он не предвидел. Вот почему Сефер-Кази сегодня не так уверен, как всегда, когда собирается весь диван.
…Тяжелые шаги слышны за дверями. Невидимые аскеры откидывают бархатную завесу. Низко, до самой земли, склоняют головы мурзы и беи, только Сефер-Кази смотрит на дверь. Но это еще не хан. Это только его телохранитель, негр Самбу. Сверкая белками глаз, он картавой скороговоркой оповещает:
— Великий хан спустился с башни Мудрости и прошел в сераль к своей старшей жене.
Сефер-Кази глотает усмешку. хан хочет, чтобы диван знал — он спокоен и знает, как поступить. Не напрасно пробыл он все утро на башне Мудрости. Аллах осенил его мудрыми мыслями, и он поспешил к своей старшей жене, чтобы доверить ей советы аллаха. На башне Мудрости к нему возвратилось утраченное вчера равновесие. Хан хочет, чтобы так думал диван. Но если так думают Карач-мурза или Каплан-мурза, то не так думает Сефер-Кази.
И когда спустя некоторое время хан Ислам-Гирей входит в тронную палату и садится на вышитые золотом подушки под голубым балдахином, на один миг хану кажется, что к нему действительно возвратилось утраченное спокойствие. Что нет никаких забот. Все совершается по прежним законам. Диван покорно выслушивает мудрые слова хана. Аскеры на быстроногих конях развезут ханский фирман. Медногорлые трубы в улусах затрубят поход. Подымут ногайскую, бузулукскую, буджакскую, перекопскую орды. Сизой пылью покроется на сотни миль весенняя степь, С двумя, тремя конями выступит в поход каждый его гвардеец. Пятьдесят тысяч луков, пятьдесят тысяч сабель закаленной дамасской стали! Далекий поход, счастливый поход, обильный ясырь… Завеса огня над вражеской землей. Запах горелого щекочет ноздри Ислам-Гирея. Вот они идут торным Черным шляхом, тысячи тысяч пленников. Спешит в Бахчисарай сам визирь султанский из Стамбула— встречать победителя Ислам-Гирея. Так было в сорок восьмом году, так было в сорок девятом, так было в пятидесятом и в пятьдесят первом… Так могло быть и в нынешнем, 1654 году, если бы не Рада в Переяславе. Кто надоумил Хмельницкого? Ведь самим аллахом начертано — быть гяуру Хмелю вечным данником хана крымского.
Невидящим взором смотрит хан в широкое венецианское окно поверх склоненного ниц мудрого своего дивана. Сердце терзают гнетущая тоска, ядовитые предчувствия, неутолимая жажда мести и лютая злоба. Но как поступить?
Ждет мудрого слова диван. Кажется, вот-вот лопнет багрово-сизая кожа на круглом затылке у казначея Карач-мурзы. Слишком много накрал, видно, Карач-мурза. Тяжело, с присвистом, дышит Каплан-мурза. Молчит и почтительно смотрит на хана Сефер-Кази. А что сейчас творится в покоях его брата Магомет-Гирея? Зачем к нему ходит Рейс-эффенди? Какие речи ведут они за игрой в кости? Почему молчит об этом визирь, который все видит и все слышит? Почему? Тысячи «почему»! Кто виноват, что Скала Могущества, как зовут во многих державах его ханство, заколебалась? Кто? Впрочем, хан знает кто. За далеким маревом Дикого Поля он хорошо видит тот город и ту землю, куда с давних пор мечтает прийти навеки победителем, испепелить ее, разорить, прибить свой щит на каждых воротах московского Кремля, посадить в нем своего мурзу — и пусть тогда сам султан Мохаммед IV, этот сопляк, лопнет от зависти со всем своим диваном.
Хап раскачивается на подушках и потирает руки. Душевное равновесие возвращается к нему не скоро. В сущности, его нет, есть только деланное спокойствие. Ни Карач — мурза, ни Каплан-мурза, ни хитрый турок Рейс-эффенди, соглядатай Магомета-Кепрели, султанский пес, ни даже Сефер-Кази не должны знать того, чем встревожена душа хана.
Легонько хлопнув в ладоши, выдавив на крепко сжатых губах некое подобие улыбки, хан говорит:
— Мудрым советникам нашим, прославленным рыцарям ханства нашего, верным данникам великого султана нашего, несравненного Мохаммеда Четвертого (это уже нарочно, дли Рейс-эффенди) от всего сердца нашего приносим мы привет и желаем здоровья и долголетия.
Мелькают перед глазами хана белые пухлые руки, прижимаются чинно ко лбу, к губам, к сердцу… Все совершается установленным порядком. Несокрушима сила хана, и могущество его неодолимо. Сверкает полумесяц на голубом потолке тронной палаты, как и прежде, в былые годы. Аскеры с обнаженными мечами стоят у дверей. Кричат муэдзины на минаретах. Шестеро послов из чужеземных держав прибыли к хану Ислам-Гирею по важным делам. Все, кажется, так же, как и прежде, и все не так.
Можно обмануть беев и мурз, можно держать в покорности орду в дальних и ближних улусах, есть чем отвести глаза Стамбулу, но не обмануть хану гетмана Хмельницкого, как не обмануть и Московского царя. Это хан знает так же хорошо, как и визирь. Хотя и делает вид, будто верит и силу и мудрость ханского слова, но ловит Ислам-Гирей беглую усмешку под редкими усами, колючие искорки в глазах Сефера-Кази.
Щекочет ноздри запах благовоний, брошенных сейманами на жаровни. Весеннее солнце заглядывает под голубой балдахин, где на подушках, поджав под себя ноги, сидит Ислам-Гирей.
— Мы призвали вас, мудрые советники, — говорит он после долгого молчания, — чтобы держать совет, как поступить нам с послами земель Мультянской и Трансильванской, — хан умышленно начинает издалека, это также бросается в глаза Сеферу-Кази, — Московской и Польской, а также с послом от гетмана Хмельницкого. Ведомо вам, что Хмельницкий отложился от своего законного монарха, короля Речи Посполитой Яна-Казимира, и перешел с городами и улусами своими в подданство царя Московского, а теперь идет войной вместе с ним на короля Речи Посполитой. Король Ян-Казимир просит нас помочь ордой и обещает ясырь великий и упоминки; о том просят также послы трансильванский и мультянский. С послом Хмельницкого мы ещё не говорили. Посол московский, ведомо нам, будет хлопотать о том, чтобы мы возвратили всех урусов-пленников, взятых нами на приграничных землях Путивльского и Севского воеводств, а также купцов-урусов, забранных нами в Кафе и Гезлеве. Как посоветуете вы поступить нам?
Минуту, как полагается, длится молчание. Затем Каплан-мурза, старейший годами среди мурз, говорит своим хриплым голосом:
— Что сказал тебе аллах, мудрый хан, когда ты беседовал с ним в башне Мудрости?
— Аллах сказал, — молитвенно закатывая глаза, говорит Ислам-Гирей, — обождать.
Хан зорко смотрит на свой диван, испытующе на визиря, стараясь угадать, какое впечатление произвели его слова. По некоторым признакам он видит, что визирь не ожидал от него именно этого слова.
— Аллах посоветовал, — продолжает Ислам-Гирей, — выслушать всех послов-чужеземцев, отправить грамоту нашему великому султану в Стамбул, просить его совета. Как скажет султан наш, великий, храбрый Мохаммед Четвертый, так и надлежит нам поступить.
Дымится кофе в медных кофейниках. Щекочет ноздри аромат благовоний, тлеющих в жаровнях. Весеннее солнце заглядывает под голубой балдахин, где на подушках сидит Ислам-Гирей.
Слова хана — неожиданность для Сефера-Кази. Это хорошо видит хан. От его зоркого взгляда не ускользает чуть приметное пожатие плечами, вздрагивание сплетенных на животе пальцев, хотя бесцветные глаза Сефера-Казн неподвижны и не отрываются от ханского лица.
«Плохая игра», — думает визирь.
— Пленных поляков кормить хорошо, — приказывает вдруг хан, — снять с них колодки и цепи. Вечером позвать ко мне посла короля трансильванского, буду говорить с ним, а на обед завтра пригласи посла гетмана Хмельницкого.
Визирь только руками развел, поморгал глазами: неизреченна, мол, мудрость ханская. Карач-мурза осторожно причмокивал языком. Рейс-эффенди икал, а Каплан-мурза надувал губы и поглаживал круглые, как у женщины, коленки. Продолжалось молчание. Одну, две, три минуты… В склянке часок, стоявших на низеньком столике, шелестел песок. Его осталось немного в верхней половине. Скатятся в нижнюю золотистые песчинки — подымутся мурзы, беи и визирь. Совет закончен. Но хан резко переворачивает склянку, снова верхняя половина ее полна песку. Сефер-Кази перебирает пальцами на животе. Лицо хана наливается кровью.
— Кто уверял меня, что Хмельницкий не поддастся Москве? Что данником нашим быть ему вечно?
Тихо. Жесткий голос хана тонет в углах, его вбирают стены, покрытые коврами и лазоревым адамашком.
— Кто ручался головой, что Хмельницкому никогда не подняться? Что он без орды не стоит медного гроша?
Голос хана прерывается и дрожит. Тяжело переводит дыхание Карач-мурза. Почтительно вздыхает Рейс-эффенди. Каплан-мурза хитро, не без удовольствия, щурит глаза на визиря. А визирь Сефир-Кази смотрит на полог балдахина, на котором выткан золотом лев. Визирю кажется, что лев кивает ему головой, как бы успокаивая: «Ничего, не горюй, обойдется. Разве впервой тебе выслушивать гневные слова хана? А время развеет гнев, и что он без тебя, хан? Ведь я видал и слыхал не такое еще!» И визирь молчит. Молчать и выжидать надлежит в такие минуты, когда хан разъяренным возвращается из башни Мудрости.