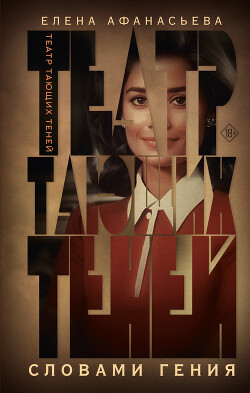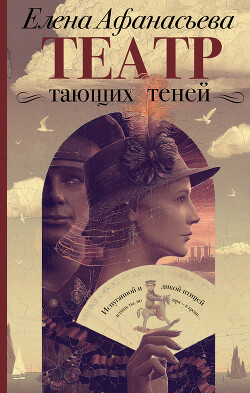Театр тающих теней. Под знаком волка - Афанасьева Елена
Даля рассказывает свою сумасшедшую теорию, что рисунки с подписью SavVa — это ранние работы Вулфа, написанные им в России еще до его эмиграции, поэтому и найденные здесь, хоть и без надежного провенанса.
— До эмиграции ему лет шестнадцать было? — вскидывает одну бровь Оленев.
— Его биография покрыта тайной. Никаких точных сведений ни в одном из источников. По разным данным, на момент эмиграции ему было от шестнадцати до восемнадцати.
— И уже такие работы?
— Гениальность возраста не спрашивает.
— Логично, — соглашается бывший олигарх.
И будто между делом добавляет:
— Коллекцию мне соберешь?
— Я?!
— Гениальность возраста не спрашивает, — парирует Оленев.
И, набрав побольше воздуха в легкие, со всей наглостью, на которую только способна, исключительно от испуга, Даля выпаливает:
— Соберу!
Убийство в филармонии Иннокентий Саввин Берлин. 28 марта 1922 года
Восемь часов вечера
Через несколько часов в Берлинской филармонии на Бранбургерштрассе, 22, супруги Саввины второй раз за день встречают Парамонова.
— Не думал, что доклад кадетов может вас интересовать! — удивляется тот. — Молодая дама с интересами в модном бизнеса и муж-художник с явными экономическими способностями, и что же вас сюда привело?
— Есть дела, — односложно отвечает Марианна.
— Понятно, русских тянет к русским, какими бы они ни были, — Парамонов выносит вердикт, далекий от истины.
Краснолицый обрюзгший экс-министр иностранных дел Милюков в этот мартовский вечер собрал полный зал.
— Музыка в разоренной Германии собрать полного филармонического зала не может, — жалуется Парамонов Саввиным, в лицах которых особой заинтересованности происходящим не наблюдается. Жена откровенно скучает, а муж усиленно вертит головой по сторонам, будто высматривает кого-то.
— А бывший русский министр, разругавшийся не только с врагами, но и с ближайшими сподвижниками, — нате, пожалуйста! Тыщи полторы зевак набежало поглядеть, станут ли Милюков с Набоковым друг другу морды бить.
Не стали.
Набоков, напротив, более чем примирительно представляет вчерашнего союзника.
— Милюков и сегодня один из виднейших и авторитетнейших русских политических деятелей! — говорит Владимир Дмитриевич и присаживается в первый ряд президиума слушать, что Павел Николаевич скажет об Америке и России.
Часам к десяти вечера, очевидно витающий где-то там, в американских облаках, Милюков первую часть доклад заканчивает. Объявляют перерыв.
Парамонов поднимается с кресла, приглашает молодых супругов в буфет выпить сельтерской. Марианна с готовностью соглашается, ей происходящее успело наскучить, а в буфете можно попробовать еще раз потенциального совладельца идеей модного дома увлечь. Муж ее Иннокентий говорит, что кое-кого ищет и после их догонит.
…А дальше второй раз за день всем троим кажется, что реальность растворяется и они оказываются внутри какой-то пошлой фильмы.
Не успевает выходящая из зала толпа разделиться на две части — большую, пробирающуюся к выходам, и меньшую, устремившуюся прямо на сцену к трибуне, ручкаться с оратором, — как от этой меньшей кучки отделяется чрезвычайно невысокий человек в дурно сидящем на нем пиджаке и визгливо вопит:
— За царскую семью! За Россию!
Человек выхватывает из кармана пистолет и стреляет вслед Милюкову.
Крик его опережает выстрел, и кто-то из окруживших Милюкова почитателей успевает сбить недавнего предводителя с ног. Милюков на полу, сподвижники падают на него, закрывая своими телами.
К стрелявшему бросается вскочивший со своего места в президиуме Набоков. Всегда гордившийся приобретенной в занятиях английским боксом сноровкой, Владимир Дмитриевич легко хватает стрелявшего за руку и валит на пол, стараясь его обезоружить. На помощь спешит Каминка, но, увидав, что Набоков и один легко справился с покушавшимся, поворачивается к сбитому с ног и набившему шишку Милюкову.
— Трагедия грозит перерасти в фарс! — говорит своим молодым спутникам Парамонов и поворачивается, чтобы идти дальше к выходу из зала.
Но в этот момент интрига этого странного дня делает новый виток. И снова оборачивает фарс в трагедию.
На сцену выскакивает еще один человек. Высокий, лысоватый, вполне еще молодой мужчина спешит отбить своего сообщника, задержанного Набоковым.
Не добежав и до середины сцены, где и завязалась эта внешне почти водевильная куча-мала, этот второй трижды стреляет в Набокова. Владимир Дмитриевич странно дергается. И, не успев ничего сказать, валится на бок. На дорогом пиджаке из темной шерсти расплываются три стремительно темнеющих пятна.
Дальнейшее действие почти невозможно разложить на реплики и действия отдельных персонажей.
Паника.
Толпа.
Крик.
Визг.
Сутолока, среди которой на сцену бросаются и не успевший далеко уйти от своего второго ряда кресел Парамонов, и молодой художник Иннокентий Саввин. Парамонов хватает стрелявшего в Набокова долговязого террориста, который теперь отчаянно, без разбору, палит во все стороны, рискуя убить кого-то еще.
Без всякого английского бокса, вспомнив лишь детские кулачные бои со старшим братом да с приказчиковыми сыновьями Остапкой и Кузькой, не потерявшим силу кулаком Парамонов бьет поворачивающегося в его сторону долговязого в висок. Вторым ударом выбивает из его рук пистолет и заламывает одну руку за спину. Другую руку убийце успевает заломить подобравший с пола пистолет Иннокентий Саввин.
И только когда еще несколько человек наседают на долговязого, молодой художник замечает кровь на собственном пиджаке и не понимает, его ли это кровь? Снова ли на него покушались или он просто испачкался, и на нем теперь кровь кого-то из раненых в этой нелепой пальбе?
Молодой художник склоняется над лежащим на сцене Набоковым, пробует пульс на руке и жутким шепотом произносит:
— Убит!
Четверть часа спустя приезжает жандармерия.
До ее приезда бывшие кадеты и те, кто, как Парамонов, окончательно разошелся с ними на путях-дорогах русской революции, по очереди удерживают террористов. Художника Саввина от этой охранной очереди освобождают как раненого. Кровь на пиджаке оказалась его собственной, пуля навылет пробила левую ладонь, но покинуть филармонию не разрешают даже раненому, велят дожидаться очереди на допрос. Разве что позволяют выйти на улицу, дух перевести.
— Парные метки теперь у нас с тобой! Зеркальные, — грустно шутит Марианна, на правой ладони которой странный след то ли от ножа, то ли от пули. И вдруг начинает рыдать и бить мужа в грудь: — Тебя же убить могли! Убить!
Забыв накинуть пальто, в одном пиджаке, с наспех забинтованной носовыми платками, стремительно набухающими кровью, рукой, молодой художник с женой выходят из громоздкого неуютного здания на крыльцо. Прямо на ступеньках закуривают. Без всякого длинного мундштука молодая женщина раскуривает папиросу и, затянувшись, протягивает мужу.
Видят, как к зданию филармонии подруливает таксомотор, навстречу которому устремляются кадетские лидеры Гессен и Каминка. Из дверцы авто выходят красивая женщина и поразительно похожий на Набокова юноша.
— Август Исаакович! Август Исаакович! — Женщина хватает Каминку за рукав. — Что?! Что случилось? Скажите мне, что случилось?!
Каминка неуклюже разводит руками:
— Что же, Елена Ивановна, всё плохо… Всё очень плохо…
— Всё кончено? — то ли вопрошает, то ли самой себе объясняет Набокова.
Каминка молчит. Молчит и Гессен. Покачивающаяся — вот-вот в обморок упадет — женщина дрожит и, подхваченная сыном, впивается в его руку.
— Как же это, Володя?! Как же это?! — сначала тихо, потом всё громче и громче повторяет она. — Добрый вечер, Савелий! — машинально здоровается с сидящим на ступеньках раненым художником и снова поворачивается к сыну: — Володя, ты понимаешь? — И обратно к художнику: — Савва, а ты что-нибудь понимаешь?! Как же так?!