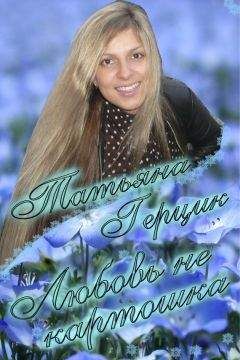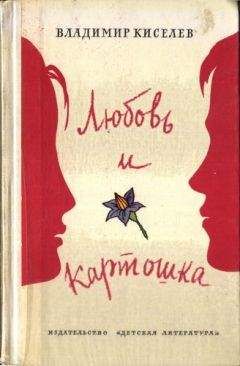Илья Сельвинский - О, юность моя!
— Да потому, что его теория... правильная.
— Милая! — воскликнул Леська и кинулся к ее рукам, чтобы расцеловать их.
Алла Ярославна отстранила его.
— Не так бурно, Елисей Бредихин. Хотя вы были правы по существу, но действовали, как мальчишка. Неужели вы до сих пор не поняли, что история — дама несправедливая и довольно глупая?
Вошел Беспрозваиный с самоваром, затем исчез и появился вновь: от старика со страшной силой пахло одеколоном, которым душился Кавун.
— Расскажу вам, Алла Ярославна, одну историю, которая случилась лично со мной. А вы, Елисей, пока разливайте чай.
Прочитав однажды в журнале «Аполлон» стихи Черубины де Габриак, я влюбился в нее заочно и послал ей пламенное письмо. В ответ получаю совершенно возмутительную записку от Гумилева:
«Болван! Эта женщина — литературная мистификация».
Был в это время в Симферополе поэт Максимилиан Волошин. Я показал ему эту записку. Волошин расхохотался.
«Ну, хорошо, — говорю. — Пусть мистификация, по почему «болван»?»
«Потому «болван», что Гумилев сам оказался в дураках. Вот как было дело».
И Волошин стал мне рассказывать: «Бродили мы однажды с Андреем Белым по берегу моря в Коктебеле. Глядим — трупик ската. Вы видели когда-нибудь ската? Он похож на серый туз бубён с хвостом, напоминающим напильник. Андрей говорит:
«А ведь у него, в сущности, монашеское одеяние. Голова с капюшоном, остальное — ряса. Как могли бы звать такого монаха?»
«Габриэль», — говорю я.
«Нет. Пусть это будет его фамилией: Габриак. Даже де Габриак. А имя у него такое: «Керубино» — от древнееврейского «херувима»?»
«А что, если это женщина? Прекрасная молодая женщина, унесшая тайну в монастырь?»
«О! Тогда ее будут звать Черубина де Габриак».
«Превосходно. А какие стихи могла бы писать такая женщина?»
Начали сочинять, перебивая друг друга и пытаясь нащупать характер этой загадочной монахини. В конце концов настрочили несколько стихов. Одну строфу я помню наизусть:
И вновь одна в степях чужбины,
И нет подобных мне вокруг...
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?
Отдали переписать одной девушке, у которой был изящный почерк, и отправили в журнал «Аполлон». Там стихами заведовал тогда Гумилев. Ну, Николай мгновенно сошел с ума, тут же, немедля напечатал их и прислал Черубине на адрес нашей девушки пламенное объяснение в любви. Тогда мы с Андреем решили продолжать нашу игру. Ответили на его письмо со всей сдержанностью, на какую способна молодая монахиня с прошлым, и дошли до того, что по приезде в Петербург вызвали Гумилева от ее имени в ателье художника Головина. Гумилев бросился на свидание, точно акула на железный крюк. Но когда его привели в мастерскую, он увидел в креслах меня, Алексея Толстого и Маковского. Бедняга начал озираться. Тут я встал, подошел к нему и произнес:
«Позвольте отрекомендоваться: Черубина де Габриак».
«Негодяй!» — закричал взбешенный Гумилев.
Я ударил его по физиономии.
«Раздался мокрый звук пощечины!» — сказал Толстой, цитируя Достоевского.
Гумилев тут же вызвал меня на дуэль. Когда мы уходили, я извинился перед Головиным за учиненный в его ателье скандал.
«Пожалуйста, пожалуйста! — пролепетал растерявшийся хозяин. — Сколько угодно!»
Все засмеялись.
— А дуэль? — спросила Алла Ярославна, слушавшая с большим интересом. — Дуэль-то состоялась?
— Ого! Еще какая захихикал Аким Васильевич. — Достали пистолеты, карту, выехали за город к Новой Деревне, — все как полагается. Толстой выбрал в рощице лужайку, которая показалась ему наиболее удобной, и пошел к ней удостовериться в ее пригодности для такого романтического дела. Был он в цилиндре и в черном сюртуке. Шел очень серьезно, почти олицетворяя собою реквием, и вдруг провалился по бедра. Когда же вылез, оказался весь, извините, в вонючей тине: лужайка была болотистой.
Все снова расхохотались. Особенно заливалась Карсавина. Она оказалась очень смешливой.
— Ну, вы понимаете, — продолжал в совершенном восторге Аким Васильевич, — что после этого ничего серьезного быть уже не могло. В конце концов оказался потерпевшим ваш покорный слуга, заработавший «болвана».
Алла Ярославна снова надела шляпку и начала натягивать вуаль.
— Вы проводите меня, Бредихин?
— Конечно, конечно...
Она вышла в коридор.
— Извините, что не оставил вас тет-а-тет, — зашептал Аким Васильевич, пригибая к себе Елисея. — Но она так прелестна, что я не смог... И потом — какой прекрасный собеседник!
— Собеседник? Она? — злобно переспросил Елисей.— Но ведь вы не дали никому слова сказать!
На улице Леська взял Карсавину под руку.
— Разрешите?
Она крепко прижала его руку к своей талии и повернула к нему голову.
— Вам надо скрыться, Бредихин, — сказала она тихо.
— Как скрыться? Зачем?
— Я за этим к вам и пришла, но ваш бойкий старичок... Словом, боюсь, что прийти на лекцию Булгакова вы сможете беспрепятственно, но выйти оттуда...
— Неужели это серьезно?
— К сожалению, да.
— Почему вы так думаете?
— Я сегодня исповедала вашего священника. Он разъярен и уже звонил одному нехорошему человеку. Ректор напуган до последней степени: в его университете агитатор, а вы знаете, какое это сейчас страшное слово? За агитацию вешают.
Леська помолчал. Шли они темными переулочками. Леська нарочно петлял, чтобы побыть с Аллой Ярославной подольше. Она не протестовала.
— Как я счастлив, что вы пришли. За предупреждение спасибо, но...
— Послушайте, Бредихин. Вы очень молоды. А в вашем возрасте любовь — это алгебраический икс, под который можно подставить любое именованное число.
Леська несколько опешил. Он вспомнил Васену и тут же Катю, Аллу Ярославну и тут же Мусю... Проклятая юность! Когда она кончится!
У выхода на Дворянскую Карсавина остановилась.
— Ну, здесь мы простимся. Действуйте быстро, Бредихин. Желаю удачи.
Леська ждал, что она его на прощанье поцелует, но у Аллы Ярославны не было этой мысли. Вообще женщины редко способны на чудо. Вот Карсавина — уж на что личность, а не додумалась...
Леська видел, как она уходила в огни синей улицы, и шептал ей вслед:
— Я люблю тебя! Милая! Я люблю тебя!
Так бездарно оборвался его роман с этой замечательной женщиной. Но жить все-таки нужно. Что ему предпринять теперь, сейчас, в эту минуту?
У Леськи была повадка молодого тигра. Старый тигр людей не боится, но молодой никогда не вернется на то место, где его учуяли охотники, даже если там осталась туша свежего оленя.
3
Елисей не возвратился на Петропавловскую площадь. Он пошел к тюрьме, разыскал фабрику «Таврида» и вызвал мастера Денисова.
— Мне нужно видеть Еремушкина, — сказал он Денисову.
— Еремушкин умер.
— Да что вы?! Не может быть! Ведь он только недавно...
— Тшш... Не кричите. Ваша как фамилия?
— Бредихин,
— Студент?
— Студент.
— А-а... Ну, пойдемте.
Пройдя через весь двор, вкусно пахнувший яблочным вареньем, они подошли к маленькому домику. Денисов вошел первым.
— Еремушкин, к тебе студент.
Еремушкин показался на пороге.
— Здравствуй, Еремушкин!
— Чай пить будем?
За столом хозяйничала молоденькая девушка.
— Знакомьтесь! — сказал Еремушкин.
— Фрося.
— Ефросиния Ивановна! — поправил Денисов.
— Это ваша дочь? — спросил Леська.
Хозяйка вспыхнула и улыбнулась.
— Это моя жена! — вызывающе выпалил хозяин.
— Что у тебя? С чем пришел? — сурово спросил Еремушкин.
Леська рассказал ему историю с профессором политической экономии.
— Какое ты имел право чудить? — сдерживая ярость, проскрежетал Еремушкин. — Кто дал тебе указание на дискуссию? Тебе доверили большое дело, у тебя оказался дружок, который служит в Осваге, а ты берешь и по-дурацки все это смахиваешь к чертовой матери.
— Но не мог же я допустить, чтобы этот поп...
— Мог! Должен был допустить! Если б ты рассказал об этом мне, мы бы выпустили листовку, подбросили ее в университет, и ты по-прежнему жил бы припеваючи. А теперь что? Будешь работать на этой фабрике. Повидло варить будешь. Что ты можешь ему поручить. Иван Абрамыч?
— «Веселку», а то что же еще?
Фабрика «Таврида» инженера Бутова варила повидло и мармелад из фруктов заказчика. Сегодня заказчиком был купец Зарубов, а заказ стоил ему семьдесят тысяч «колокольчиками». Обо всем этом рассказал Леське Денисов, когда вел его во второй цех.
Погода скверная: промозглая, осклизлая, какая бывает в Крыму только в декабре. Цех пахнул горячим вареньем вперемешку с горьким дымком. Там было прохладно. Но у котлов, вмазанных в очаги, работала целая стая веселых девушек, и это вносило в каменный сарай чуть ли не весеннее настроение.