Елена Арсеньева - Госпожа сочинительница
Не меньше чем вот так: умереть вместе, умереть от любви.
(Спустя четыре года после их с Родзиевичем разлуки Марина попытается объяснить то, что с ней происходило тогда, почему это любовное исступление владело ею столь сильно. У нее завелся тогда молодой двадцатипятилетний друг, поэт (альпинист, рано погибший) Николай Гронский. Его мать, дама, как принято выражаться «за сорок», вдруг влюбилась и ушла из семьи. Николай это очень тяжело переживал. Во всякое другое время своей жизни Марина разделила бы его переживание, его негодование. Однако теперь (после плотской школы Родзиевича!) вдруг вступилась за мадам Гронскую:
— Думал ли ты о последнем часе — в ней — женщины? Любить — это иногда и целовать. Не только «совпадать душою». Из-за сродства душ не уходят из дому. О, Колюшка, такой уход гораздо сложнее, чем даже ты можешь понять. Может быть, ей с первого разу было плохо с твоим отцом (не самозабвенно — плохо), и она осталась, как 90 или 100 остаются — оставались из стыда, из презрения к телу, из высоты души. Ей за сорок — еще пять лет… И другой! И мечта души — воплотиться наконец! Жажда той себя, не мира идей — хаоса рук, губ. Жажда себя, тайной. Себя, последней. Себя, небывалой!
Не переболевши — болезни другого не поймешь. Каждое слово о Гронской — это история Марининой болезни, которая чуть не стала для нее смертельной. А может, жаль, что не стала, — она умерла бы счастливой…
«Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жарче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.
Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди…
Друг, я вся твоя.
А потом будешь смеяться и говорить и засыпать, и когда я ночью сквозь сон тебя поцелую, ты нежно и сразу потянешься ко мне, хотя и не откроешь глаз…»
Да полно, она ли это? Марина ли?!
Она. Разумеется, она! И прежде всего в том, что всегда, в самые упоительные минуты оставалась верна себе: «Хорошо нам может быть со всяким, боли мы хотим только от одного!» — и ждала этой боли, и не верила в то, что это надолго.
Такое не может длиться долго!
«Не расстанусь! — Конца нет!»
И льнет, и льнет…
А в груди — нарастание.
Грозных вод.
Нот… Надежное: как таинство.
Непреложное: рас-станемся!
Все сошлось одно к одному: Сергею Эфрону стала известна любовная история жены.
Поверил он сразу — хорошо знал натуру Марины и не мог забыть, как в Берлине накануне встречи с ним, шесть лет не виденным мужем, ее пожар уже был разожжен другим. Не мог забыть вывернутой наизнанку искренности ее стихов, из которых он — идеалист, конечно, но мужчина опытный и жену свою хорошо-о знающий — сделал безошибочные выводы: она ему не просто не верна, она не верна воинствующе! Это ее жизненное кредо!
И все же прообразы прошлых лирических героев и героинь оставались в области загадок и догадок. Как говорится, то, чего не знаешь, — не помешает. А здесь — нет догадок и полутонов, все обнажено, все всем известно, никто ничего не скрывает.
Конечно, Сергей был потрясен — кто из мужей не был бы? — и почувствовал, что этой измены он Марине не простит. Брата своего родного — прощал. Софью Парнок — прощал. На тех, бывших в его отсутствие, закрывал на них глаза, вернее, зажмуривался, ибо — призраки.
Но реального человека, друга, хоть и бывшего…
Нет.
— Нужно расстаться, — сказал он.
Марина была ошарашена. Отчего-то она даже и помыслить не могла, что эта ее неистовая страсть с вечными поездками в Прагу, с блужданиями по вокзалам, с тайными встречами, с торопливым и сладостным совокуплением где попало, на случайных квартирках и даже под кустами в пристанционном лесочке, с этим ее волшебно изменившимся лицом, полным, полнейшим (куда глубже даже, чем во время творческих запоев!) погружением в себя, да и не в душу, а в тело свое, — отчего-то она и помыслить не могла, что Сергею сделается все известно.
Она рвалась между двумя мужчинами две недели: на это время даже к знакомым переехала, чтобы мужа не видеть. Встречалась только с Константином. Он вяло утешал ее, вяло удивлялся ревнивой вспыльчивости Сергея. Для него вопрос о выборе не стоял: конечно, будет так, как захочет Марина, а вообще-то цивилизованные люди давно научились совмещать несовместимое. Значение имеет только любовь, только встречи, а что происходит в промежутке — личное дело каждого! Вот у него тоже имеет место быть вялотекущий роман с Марией Сергеевной Булгаковой, дочерью знаменитого философа, — ну и что? Они даже периодически подумывают о том, чтобы пожениться… Ну и что! Марина замужем, он женат… но любовь-то друг к другу тут вообще при чем? Кто любить-то не дает, совершенно невозможно понять!
А между тем перед Мариной ясней и ясней вырисовывалась суть человека, который заставил ее потерять не только голову — себя потерять! «В любви есть, мой друг, любимые и любящие, — напишет она Бахраку, которому с мазохистским наслаждением снова и снова начнет пересказывать историю своего разбитого сердца. — И еще третье, редчайшее: любовники. Он был любовником любви. Начав любить с тех пор, как глаза открыла, говорю: такого не встречала. С ним я была бы счастлива. (Никогда об этом не думала!) От него бы я хотела сына. (Никогда этого не будет!)» Не лукавьте, не лукавьте, как поется в одной старинной песенке!..
«Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души. Делать другому боль, нет, тысячу раз лучше терпеть самой, хотя рождена — радоваться. Счастье на чужих костях — этого я не могу. Я не победитель!» — пытается она объяснить свое возвращение к Сергею.
Не лукавьте, не лукавьте!..
Ты, меня любивший фальшью.
Истины — и правдой лжи.
Ты, меня любивший — дальше.
Некуда! — За рубежи!
Ты, меня любивший дольше.
Времени. — Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.
Не лукавьте, не лукавьте, Марина Ивановна! Константин любил так, как мог. Но вы-то не зря сетовали:
Не обман — страсть, и не вымысел!
И не лжет — только не дли!
О, когда бы в этот миг явились мы.
Простолюдинами любви!
Вы не зря признавались: «Я всю жизнь завидовала: когда-то простым „jeunes filles“[33] — с женихами, слезами, придаными и т. д., потом — простым „jeunes femmes“[34] — с простыми романами или даже без всяких. Больше скажу — в любви — чего я над собой не делала — чтобы меня любили — как любую — то есть: бессмысленно и безумно — и — было ли хоть раз? Нет. Ни часу!»
Не лукавьте, Марина Ивановна: Константин любил вас именно так. Но такова уж была ваша натура — с непременной жаждой страданий. Какие-либо качества или некачества Родзиевича тут роли не играли. Вы с ним изведали чрезмерно много физического счастья, чтобы смогли долго нести эту ношу — непрестанного женского удовлетворения.
И Сергей Эфрон прекрасно понимал причины, по которым Марина к нему вернулась. Нет, не это:
От гнева в печени, мечты во лбу.
Богиня Верности, храни рабу.
Чугунным ободом скрепи ей грудь.
Богиня Верности, покровом будь!
И его качества или некачества тут тоже никакой роли не играли!
Вспомним его же собственный диагноз:
«Марина — человек страстей… Отдаваться с головой своему урагану — для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию…
И все это — при зорком, холодном (пожалуй, даже вольтеровско-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — все обращается в пламень. Дрова похуже — скорее сгорают, получше — дольше…»
Константин Родзиевич оказался дровами как раз такими, какими надо!
Оставленного зала тронного.
Столбы. (Оставленного — в срок!)
Крутые улицы наклонные.
Стремительные как поток.
Чувств обезумевшая жимолость.
Уст обеспамятевший зов. —
Так я с груди твоей низринулась.
В бушующее море строф.
Ох, как оно бушевало, это море, как билось в берега материка, именуемого Мариной Цветаевой! «Поэма Горы», «Поэма Конца». И — одно из лучших стихотворений Марины: «Попытка ревности», написанное после того, как она встретила на каком-то русском вечере в Праге обожаемого и не забытого все еще Константина Родзиевича в обществе этой самой Муны Булгаковой, с ее явной влюбленностью, и навязчивостью, и какими-то женскими часиками, которые она ему зачем-то подарила, а он почему-то взял… И разговоры об их возможном браке дошли до Марины. Она приняла, как всегда, возможное — за реальное. А разразилась гневом в адрес человека, который ее не бросал — которого она бросила…
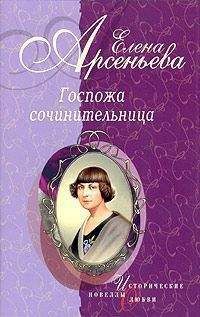
![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/uploads/posts/books/17531/17531.jpg)


