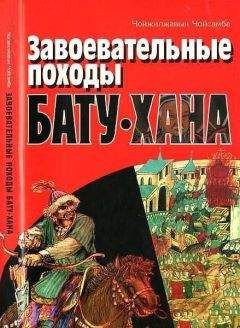Лев Никулин - России верные сыны
Да, то был день великого торжества храбрых россиян! Увы, не дожили до того дня спаситель отечества нашего Кутузов, храбрейший из храбрых Багратион, два брата Тучковых, Кутайсов, славный наш партизан Фигнер и тысячи, тысячи верных сынов России. Одни нашли свою смерть на Бородинском поле, другие — под стенами Дрездена, у Лейпцига и в водах Эльбы… Мир праху их и вечная им память!
До сей поры Париж видел надменных русских вельмож — князя Куракина, богача Демидова, ловкого лазутчика Чернышева. Парижане слышали о просвещенных русских, о Дмитрии Петровиче Бутурлине, владельце погибшей при пожаре Москвы драгоценной библиотеки, о Бутурлине, отыскавшем пять ошибок в издании «Телемака» Фенелона. Издатель обещал заплатить по сто червонцев за каждую найденную ошибку — Бутурлин нашел их пять и пожертвовал деньги издателя бедным города Парижа. Шувалов, сын государственного деятеля, известного в царствование Елизаветы Петровны, сочинил «Послание к Ниноне», и эти превосходные стихи приписывали Вольтеру.
Ныне Париж увидит тысячи русских людей, от рядового до полководца, увидит цвет нации, отстоявшей свою независимость, и Европа постигнет достоинства народа, которого до сей поры не знала.
Уже давно чувствовал я усталость от приятных волнений этого дня и еле добрел до дома на улице Вожирар, где нашел желанный приют.
Описывая события 31 марта 1814 года, я не сказал еще ни слова о том, как по приезде, еще на рассвете, нашел я пристанище в Париже.
Домохозяин господин Бюрден и его семья были подняты на ноги моим ранним появлением. Парижане дурно спали в ту ночь, когда двухсоттысячная союзная армия стояла у ворот столицы, и мое появление в доме на улице Вожирар посеяло тревогу среди его обитателей. Да оно и понятно: неизвестный стучал в двери дома. Открывались окна в соседних домах; наконец появился и мсье Бюрден и, увидев меня, тотчас узнал.
— Антуанетта! — воскликнул он. — Дети! Взгляните, это наш добрый господин Можайский, наш милый жилец! Какая радость! Но, боже мой, как вы изменились!
Тут прибежала мадам Бюрден, и две милые дочки, и привратник Анри, и его жена, повариха Люси. Все удивлялись моему возвращению и обрадовались мне. Причиной были не только добрые чувства ко мне, старому их жильцу. Семья Бюрден верила, что появление в их доме русского офицера в столь тревожные дни капитуляции Парижа избавит их от бедствий. «Что, ежели русские отплатят французам тою же монетой за разорение Москвы?» — думали они.
— Вот ваши комнаты, господин Можайский. Все здесь так, как вы оставили три года назад, — и книги ваши, и одежда… Ах, что пережили мы здесь, господин Александр, когда б вы знали!..
…Я снова в моем скромном жилище. Вот бронзовые часы на камине, вот клавикорды, бюсты великих мужей — Вольтера, Лафонтена, Монтескье, Жан Жака Руссо… Софа, обитая темно-зеленым сукном, медная лампа, ширмы с сельским пейзажем… И вы здесь, мои друзья-книги — Расин, Мольер, Буало, Лесаж, наши Кантемир, Державин, Ломоносов, Сумароков, Фонвизин… О Денис, сочинитель «Недоросля», сочинитель «Рассуждения о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления»… Вот драгоценный список, сделанный с твоей рукописи, хранившейся у Петра Ивановича Панина. Еще раз перечитал я драгоценные для истинного сына отечества строки:
«Сила и право совершенно различны в существе своем, так и в образе действия. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железа, топоры. Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и разыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее. Тиран, где бы он ни был, есть тиран, и право народа спасать свое бытие пребывает вечно и везде непоколебимо».
Достал я из баула заветную тетрадь, прочитал изречение на первой странице «Salus populi suprema lex esto» — «Благо народа да будет высшим законам», перелистал мои записи. Подобно пчеле, собирающей цветочную пыльцу, с молодых лет записывал я в эту тетрадь мудрость, собранную в манускриптах и книгах.
«Достигай собственного счастья только создавая счастье других».
«Настоящая цель политики — это сделать жизнь удобной, народы счастливыми».
«Любовь к человеческому роду, желание заслужить его признательность, служение всеобщему благу — вот побуждения, которые должны одушевлять честного человека».
Следовал ли я сим благородным побуждениям, достиг ли высшего счастья… Увы, нет. А между тем мне двадцать восемь лет было в те годы, когда я решил служить всеобщему благу. И теперь, сорок лет спустя, после сибирской ссылки, я стал не ближе к цели моей жизни, чем в молодые годы. Но вернемся к дням моей молодости. Сколько ночей провел я в Париже, за маленьким бюро, погрузившись в книжную мудрость, силясь прогнать мысли о той, которая все еще владела моим сердцем… Знать, что она в Париже, что она жена другого! Какое мученье! Только вы были моими утешителями — достойные учители мои, мудрые мои друзья — книги.
Пока я разглядывал мое старое жилище, в котором прожил три года, внизу послышались голоса: кто-то, стуча тростью и задыхаясь, шел по лестнице. Дверь отворилась, я увидел на пороге моего старого друга, доктора Гюстава Вадона, и раскрыл ему объятья…
Старик обнял меня и, отступив на шаг, сказал:
— Что с вами? Вы больны? Вы ранены? — он указал на черную повязку, которая прикрывала шрам над ухом.
Я не ответил и усадил его в кресло у клавикордов, где он любил сидеть, слушая мои музыкальные шалости… Но прежде я должен рассказать читателю моих записок о моем старом парижском друге.
Доктор Гюстав Луи Вадон, всеми почитаемый врач и парижский старожил, был моим соседом и частым гостем три года назад. Он был из редких собеседников, которых французы называют «charmeur» — чаровник. Часами я мог слушать его рассказы о Париже Людовика XVI, о днях революции. Ярый республиканец, он бывал в доме Марата, был другом Жильберта Ромма, наложившего на себя руки, когда ему грозила казнь. Доктор Вадон был якобинцем, и многие его друзья кончили свою жизнь в дни термидора, другие погибли на галерах. Когда Наполеон начал расправу с республиканцами, Гюстава Вадона спасла слава искуснейшего медика. Теперь ему было за шестьдесят, ум его был светел. Позабыв усталость, я слушал его рассказы о том, что пережил Париж накануне 31 марта 1814 года.
Три года назад, когда Наполеон был в сиянии славы и могущества, Вадон все же не забывал 18 брюмера и того, что Наполеон надругался над республикой, лишил французский народ свободы и гражданства.
— Я не был склонен, подобно парижским зевакам, глазеть на торжества и парады, — рассказывал Вадон, — однако мне случилось видеть триумф Наполеона после итальянского похода, в ту пору, когда народ видел в нем генерала республики, а не узурпатора. Он разгромил гордую австрийскую империю, защитил Францию, терпевшую неудачи на Рейке; итальянский поход спас нас от вторжения врага… Но мне довелось видеть его и 18 декабря 1813 года, когда несчастный русский поход был позади. Он посетил сенат и возвращался во дворец. Хотя тот день был ненастный, тысячи зевак собрались на террасе Тюильрийского дворца… Показалась торжественная процессия. Сначала эскорт императорской гвардии в красных мундирах и медвежьих шапках… Шел дождь, вся картина выглядела весьма жалкой, мой друг… Он сидел один в раззолоченной карете, перья его шляпы намокли от дождя, так же как и горностаевая мантия… Лицо его показалось мне обрюзгшим, совсем не таким, как на портретах. Но что было самое важное — ни одного приветствия не слышалось из толпы. Люди с равнодушным любопытством глазели на ливреи лакеев, стоявших на запятках, на императрицу в мокрой малиновой мантии — она ехала во второй карете… Лил дождь, гремели барабаны, и Наполеон тоже равнодушно глядел на толпу, собравшуюся на террасе Тюильри, на людей, дрожавших от холода и сырости. Это походило на похороны, мой добрый друг, и в самом деле это было началом конца… Не прошло четырех месяцев — и неприятель у ворот Парижа…
— 24 января Наполеон покинул Тюильри. Отправляясь в армию, он указал маршалам и придворным на своего сына и сказал: «Я вверяю вам этого ребенка, надежду Франции»… Слезы умиления, умилительная картина. Но те же люди, которые лили слезы 24 января, — 31 марта махали вам белыми платками. Эти господа пойдут на любое унижение, на любую подлость, чтобы сохранить свои дворцы, драгоценности, экипажи и лошадей. Еще неделю назад, — продолжал Вадон, — Париж почитал себя в полной безопасности. Правительство и сам Наполеон поддерживали эту беспечность в народе. Неприятель был у ворот столицы, а бюллетени главной квартиры твердили о победах. Глаза наши открылись только 28 марта… Я видел ужасные сцены на бульварах. Там, где щеголи и светские львицы привыкли появляться в своих роскошных экипажах, мы увидели множество раненых солдат, толпы несчастных поселян. Оставив свои жилища, они несли на плечах жалкие пожитки. На площади, где мчались придворные кареты, я увидел бедную телегу, — на соломе поместилось целое семейство: мать, грудной ребенок, старик и старуха; на тощем ослике позади ехала крестьянка; пастух гнал частичку спасенного им стада, голодные овцы блеяли и тянулись к соломе, торчащей из телеги… Их окружали парижане. Я видел трогательные примеры великодушия, но видел и бессердечие и корысть. Я не покидал лазарета, устроенного в фойе театра «Водевиль», — не правда ли, странный приют для страждущих? Днем через Париж шли свежие войска, везли снаряды, — это подняло дух парижан; говорили, что опасность не так уж велика. И вот легковерие народа! На площадях появились уличные фигляры, фокусники и забавляли парижан до позднего вечера. Потомки не поверят тому, что двухсоттысячная армия неприятеля стояла в двух милях от Парижа, а парижане узнали об этом только на рассвете 30 марта, в четыре часа утра, когда раздались пушечные выстрелы и барабанщики во всех концах города забили тревогу. Ужас достиг высшей степени. Барабаны призывали национальную гвардию защищать столицу, вооруженные граждане шли к Монмартру, за ними бежали плачущие жены и дети… Как могли мы противостоять завоевателям? Что было у нас? Несколько пушек, у которых встали мальчики из Политехнической школы, пять тысяч линейного войска и пятнадцать тысяч национальных гвардейцев, без офицеров… вооруженные охотничьими ружьями…
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)