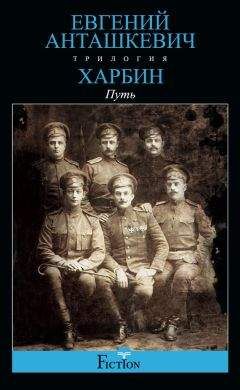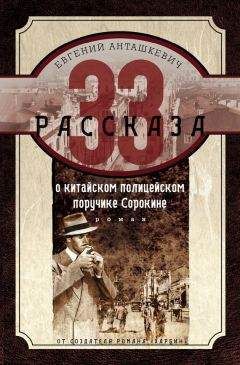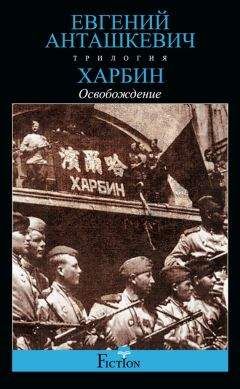Сергей Бородин - Дмитрий Донской
Три часа, содрогаясь от ярости и обиды, дозоры следили за великим побоищем.
На ветвях высоких деревьев таились дозорные, и Владимир Серпуховской, стоя на коне под теми деревьями, кричал:
— А теперь что?
— На Большой пошли.
— Ну?
— Бьются.
— Ну?
— Ой, батюшки!
— Что там?
— Ой, батюшки!
Серпуховской бил плетью коня, но, едва конь порывался вперед, князь его осаживал или крутил округ дерева.
С задранными вверх головами следили за дозорными все сорок тысяч, запрятанных в этот лес. Ольшняк и кустарники в овраге над Смолкой закрывали битву, и лишь рев ее долетал, то затихая, то разгораясь, как варево большого пожара.
Молча, не спрашивая, лишь чутко слушая дальний зловещий гул, не на коне, а на земле сидя, ждал своего часа князь Дмитрий Боброк. Вся его жизнь была отдана Дмитрию: он ходил и разгромил Тверь, Литву, Нижний, Рязань. Если падет Дмитрий, Боброк падет тоже — не останется никого, кого он не обидел бы ради Москвы. Участь Руси решалась, и решение ее участи зависело от свежих сил: выйти вовремя. Но как узнать это время?
— Наши побегли! — выл сверху дозор. — Наши побегли к Непрядве. Татары наших бьют.
— Пора! — кричал Владимир.
Но Боброк ждал.
— Чего ж ты?
— Рано.
— Чего рано? Чего ждать-то?
— Рано.
— Я велю выходить!
— Рано.
— Да гонят же наших!
— Погоди. Сядь. Слушай!
— Ну?
— Громко кричат — татары?
— То-то, что татары кричат громче.
— Вот и погоди. Они еще близко.
Дозор кричал:
— Татары заворачивают наших от Дона к Непрядве _.
— Куда?
— На Непрядву повернули. Левый полк гнут.
— Согнули?
— Согнули!
— Отвернулись от нас?
Татарские голоса стали глуше.
Боброк встал. Сердце колотилось; сжал кулак и спокойно пошел к коню.
Все смотрели уже не вверх, а на Боброка.
— Слазь! — крикнул дозорам.
Неторопливо вдел ногу в стремя, сел, неторопливо надел зеленые рукавицы. Кивнул в сторону битвы головой, рванул узду и уже на ходу крикнул:
— Пора!
Застоявшиеся кони, заждавшиеся воины единым рывком перемахнули Смолку и, обдирая сучьями кожу, вырвались в открытое поле.
Татары, увлеченные погоней, распались на многие отряды и теперь, обернув к Смолке спины, бились с рассеянными частями русских полков.
Мамай, глядя с холма на битву, увидел — войска его, теснившие русских к Непрядве, остановились, смешались и — в наступившей вдруг тишине повернули обратно.
Удивленный хан обернулся к Бернабе. Бледный Бернаба, лязгая зубами, смотрел не на хана, а в поле.
Бежала генуэзская пехота, истаивая, как волна, докатившаяся до песка; подминая все на своем пути, па нее накатилась волна неудержимых косогов, за косогами вслед бежали, завывая, татары. А впереди всех на бешеном степном коне несся к ханской ставке окольчуженный ревущий медведь.
Русские, откинутые было к Непрядве, остановились и с радостным воплем вернулись преследовать побежавших татар.
Только теперь Мамай разглядел, как, разбрызгивая тоурменские шапки, опрокидывая черные косожские папахи, из лесу вымчалась в бой свежая русская конница.
Удар Боброка в спину татарам не остановил их. Лишь часть их повернула наискось, на Красный холм, а множество продолжало мчаться к Непрядве, мимо расступившихся русских, уже не преследуя, а убегая.
Крутые берега, глубина реки, тяжесть вооруженья, свалка _.- _.и все перемешалось: яссы, буртасы, турки и косоги, фряги и тоурмены — все ввалились в Непрядву и захлебнулись в ней.
Река остановилась.
Живая плотина еще ворочалась, вскидывая вверх то конские копыта, то руки, то головы великого золотоордынского воинства. Перебежали через Непрядву лишь те, кому удалось перейти вброд по трупам.
Удар был внезапен. Так завещал Чингиз. Его нанесли свежие силы по утомленному врагу. Так завещал Чингиз. И свежая конница, наседая на плечи врага, не давая ему ни памяти, ни вздоха, погнала его прочь, уничтожая на полном ходу. Так Русь исполнила три завета Чингиза.
Мамай побежал к коню.
Дрожащей рукой он ухватил холку, но конь крутился, и Мамай никак не мог поймать стремя.
Вцепившись в седло, силясь влезть в него на бегу, Мамай задыхался, а конь нес его вслед за конями Бернабы и мурз.
Позади гремела бегущая конница, звенел лязг настигающих мечей и страшный клич русской погони.
Владимир Серпуховской, взяв уцелевшие полки, повел их на Красный холм, перевалил через гряду холмов и с удивлением проскакал по татарским обедищам, мимо опрокинутых котлов с еще теплой бараниной.
Окровавленный, но все еще мощный великий орел мчался над полями, где еще днем стояли спокойные станы, по горячей золе ночных костров, по опрокинутым телегам обозов, мимо кинувшихся в леса табунов, мимо орущих, обезумевших людей, давя и сеча их. Еще впереди грудились овечьи гурты и табуны, но врага впереди уже не было — он остался весь позади, под копытами победителей.
Владимир остановил погоню и поехал назад, на Куликово поле.
Дмитрий же Боброк повел свои силы из засады вниз по реке Птани, где бежали тоурмены, татары и сам Мамай.
Они гнали их до Красивой Мечи, до Кузьминой гати, до застланной Мамаевыми коврами ветхой русской избы.
И на Красивой Мече случилось то же, что уже испытали Мамаевы воины на Воже и на Непрядве: тяжелое вооруженье потянуло на дно тех, кто хотел переправиться через реку.
В Мамаевом шатре Боброку подали оставшийся от Мамая золотой кубок.
Боброк, подняв его к глазам, при кровавом блеске западающего солнца прочел:
«Се чаша князя великого Галицкого Мстислава Романовича, а кто ее пьет, тому во здравие, врагу на погибель».
Мстислав Галицкий пал в битве на Калке полтораста лет до сего дня. Оттуда и чаша сия была в Орду принесена.
Вот она, вернулась домой!
Боброк задумался: впереди еще бежали обезумевшие, обеспамятевшие остатки Мамаева войска и с ними сам Мамай. Есть резвость в конских ногах, чтоб настичь их. Можно догнать и добить, чтоб ни волоса, ни дыхания не осталось на свете от бесчисленных победоносных сил. Но впереди ночь, но впереди степь. И в степи — ни крова, ни пищи.
И Боброк велел возвратиться.
Снова ехали вдоль реки Птани. По реке плыли осколки щитов и мусор. Весь берег, весь путь завален был телами побитых татар. Тридцать верст они устлали трупами. Мимо трупов в сгущающейся тьме возвращались победители, глядя, как впереди все тоньше и тоньше становится красная тихая полоса зари.
И воинам, проведшим весь день в засаде, в тишине, в безмолвии и вдруг разгоряченным битвой, радостным от победы, теперь, во тьме, хотелось говорить или петь. Но никто не знал, можно ли говорить и гоже ли петь перед лицом столь обширной смерти. А Боброка спросить боялись. Он ехал впереди молчаливый, строгий.
Он вез Дмитрию золотую Мамаеву чашу и не знал, жив ли тот, кому он ее везет.
Сорок восьмая глава
ДМИТРИЙ
Из погони Владимир Серпуховской еще засветло вернулся на Куликово и велел трубить сбор Иссеченное, тяжелое черное знамя вновь поднялись над полем, устланным телами павших. И глухо, хрипя и взвывая, заревели иссеченные мечами ратные трубы. Мертвецы остались лежать.
Со всего поля сходились к Владимиру воины. Иные опирались па мечи и копья, иных вели. Но рати собирались, кидались друг к другу сродственники, и свойственники, и друзья. Иные тревожно смотрели в поле, ожидая своих. Иные кричали желанные имена, но голоса их тонули в громе труб, а на трубный зов шли все, кому хватало сил идти.
Прискакал с обрубленной бородой, с разбитым глазом Холмский, подъехали и обнялись с Владимиром Ольгердовичи — их крепкие доспехи были измяты и от крови казались покрытыми ржавчиной. От людей и от земли тяжело пахло кровью и железом. Подъехал молодой князь Новосильский; на его светлом лице, уцелевшем в битве, голубыми шрамами пролегли первые морщины. Трубы ревели. Воины вели сюда раненых, несли диковины, найденные на татарах, вели в поводу пойманных лошадей…
— Где ж брат? — спросил Владимир у Ольгердовичей.
— Я его будто видел, — сказал Новосильский, — от четверых татар отбивался. Да не мог к нему пробиться.
К Владимиру протиснулся старец Иван. Белые холщовые штаны потемнели от крови: он долго ходил по полю, в битве ободряя воинов, ища князя. Он строго спросил у Владимира:
— Где он?
— Нету! — ответил Владимир, велел смолкнуть трубам и крикнул на все поле: — Дмитрий!
И все примолкло, вслушиваясь во все стороны.
— Княже!
А Новосильский уже скакал, перемахивая через тела, к тому мосту, где последний раз бился Дмитрий.
Один раненый великокняжеский дружинник видел, как высокий воин в изорванной кольчуге тяжело шел с хвостатым копьем в руках один против мчащейся тоурменской конницы. И воин этот был Дмитрий.