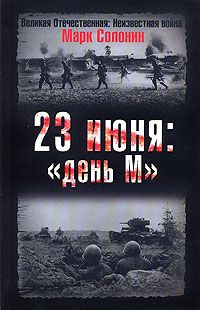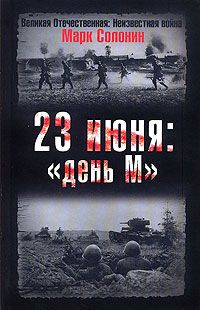Петр Полежаев - Царевич Алексей Петрович
Верховный суд выслушал все показания царевича. Казалось бы, вся сущность дела была выяснена до очевидности, но, несмотря на то, по желанию Александра Даниловича суд нашел неясности, неполноты и определил снова допросить царевича в своем присутствии, собиравшемся в здании сената, а потом подвергнуть как царевича, так и других обвиняемых обыкновенному розыскному производству.
Царевича привели в сенат. Переезд с мызы в Трубецкой раскат Петропавловской крепости произвел на царевича даже отрадное впечатление. Жизнь на мызе, под строгим присмотром неусыпных аргусов, под караулом Преображенских солдат, не отходивших от него ни на глаз, казалась ему невыносимо тяжелою уже по одному напоминанию о прежней жизни на этой же мызе с милой Афросею. И тогда было то же солнце, та же роскошная зелень; но тогда не было ноющей боли в вывихнутых суставах, не было еще более ноющего ожидания прибытия грозного отца с новыми страшными подарками. Здесь, за толстыми стенами, как будто безопаснее от грозных отцовских наездов, здесь может, наконец, встретится какая-нибудь случайность свидеться с Афросею, тоже запертою в этой же крепости. Тогда, при свидании на очной ставке в Петергофе, в присутствии отца, он от смущения не мог рассмотреть Афроси, не мог даже заметить, разрешилась ли она… Если разрешилась, — спрашивал себя царевич, — то кем, когда и где ребенок, милый селебенушка, которого они оба так любили и берегли еще до появления его на свет.
Дни проходили. Ни просьбы и мольбы, ни подарки и обещания не доставили свидания; но царевич все-таки не терял надежды, вдруг пробуждавшейся с новой силою с каждым гулом сменявшихся часовых. Известие о назначении над ним верховного суда еще более его оживило. «Отец желает самым торжественным образом закрепить отречение от наследства», — подумал царевич и обрадовался. Скоро будет конец всем страданиям, скоро ему будет возможно уехать из этого ненавистного Петербурга куда-нибудь в деревню с милой Афросей и селебеном. От суда царевич не ожидал для себя ничего дурного: на суде будут его доброхоты, его Петр Андреевич, который выищет, наконец, случай заступиться за него…
Через несколько дней царевича позвали в присутствие суда.
Перед грозным ареопагом он снова выслушал прежние вопросы и снова отвечал на них с живою откровенностью. Вопросы относились главным образом к содержанию письма, переданного ему графом Шенборном, затем к выдаче имен всех доброхотов и к разъяснению обстоятельств, в которых выражалось это доброхотство.
На первый вопрос царевич припомнил донесение резидента Плейера венскому кабинету о том, как Абрам Лопухин при свидании в Петербурге спрашивал Плейера: «Где-де обретается ныне царевич и есть ли об нем ведомость? Здесь-де за царевича стоят и заворашиваются кругом Москвы для того, что-де об нем, царевиче, ведомостей много». Относительно же своих доброхотов, царевич указал на любовь и преданность к себе черни, о которых ему неоднократно передавали Сибирский царевич, учитель князь Вяземский, Федор Дубровский и духовник, протопоп Яков.
Потом, отведя в сторону светлейшего князя, барона Петра Павловича Шафирова, Петра Андреевича Толстого и Ивана Ивановича Бутурлина, царевич высказал: «Имел я надежду на тех людей, которые старину любят, как Тихон Никитич Бирешнев, а познавал-де их из разговоров, когда с ними говаривал и они старину хвалили. Больше же де в том подали надежду слова князя Василия Долгорукова: «Давай-де писем хоть тысячу» и слова: «Ты-де умнее отца своего, отец твой хоть и умен, только людей не знает, а ты-де умных людей знать будешь лучше». А о том, будто князь Василий матерно лаял отца моего, я сам не слыхал, а слышал от других, но от кого — не упомню».
Как ни ничтожны были эти уже и прежде известные показания, но и они послужили поводом к решению верховного суда под руководством князя Александра Даниловича о назначении новых пыточных розысков.
Вслед за царевичем привели в присутствие суда Абрама Лопухина, Федора Дубровского и протопопа Якова Игнатьева.
Абрам Лопухин сначала совершенно от всего отрекся, — Плейера будто бы никогда не призывал, о царевиче у него не спрашивал, ничего не говорил и писем никаких не пересылывал, но потом, в застенке перед дыбой, изменил свои показания, сознавшись, что действительно, встретясь с Плейером осенью какого-то года на пристани барона Шафирова, спрашивал у него, где царевич, и, получив в ответ, что у них в цесарии, высказал: «Чаю, царевича там не оставят, а у нас многие тужат об нем и не без замешания будет в народе». Слова же «За царевича здесь стоят и заворашиваются кругом Москвы», — никогда не говорил, и вообще никаких разговоров и пересылок о царевиче не имел. Это показание Лопухин подтвердил и под сечением двадцатью одним ударом кнута.
Федор Дубровский в своем показании передал следующий разговор с царевичем:
— Была ль у отца твоего, государя, болезнь эпилепсия? — однажды спрашивал он царевича.
— Не знаю, — отвечал тот.
— Сказывают, у него эпилепсия и такие люди недолго живут; а слышал о том от Новгородского архиерея Иова, — продолжал Дубровский. — Отъезжать же в вольные города и о любви черни не говорил, а говорил, что у царевича в деревнях живут раскольники и все они любят его.
Это показание Дубровский подтвердил и в пытке, в которой ему дано было тринадцать ударов.
Что же касается до расстриженного московского духовника царевича протопопа Якова Игнатьева, то он откровенно признался как в своих словах царевичу о том, что в народе его любят и про здоровье его пьют, называя надеждою российскою, так и в своих словах на исповедь царевича о желании смерти отцу: «Бог тебя простит, мы и все желаем ему смерти».
Несчастного протопопа пытали три раза.
С облегченным сердцем и радужными надеждами воротился Алексей Петрович в свою замуравленную камеру. Совесть его не тяготило черное преступление; все свои затайные мысли высказал он во всей наготе, даже с теми окрасками, которые налепились ему невольно под тяжелыми ударами. Теперь, кажется, больше и спрашивать не о чем и суд без затруднения может лишить его наследственных прав, а потом… «Потом мы с Афросей будем свободны как птицы Божии», — думал царевич.
В это время, проходя по крепостному коридору, он вдруг услыхал за одной запертой дверью плач ребенка. «Мое дитя!» — крикнуло его отцовское сердце, и он, бросившись к заветной двери, с такой отчаянной силой прижался к ней, что немалого труда стоило караульным преображенцам оторвать его.
Во весь этот вечер и всю ночь царевич обдумывал и приискивал средства увидаться с Афросей.
Из всех людей, приставленных к нему на стражу, более мягким и способным поддаться обещаниям и ласке казался ему Лукаша, кухонный мастер, носивший ему кушанья. И вот на другой же день царевич с особенной приветливостью обратился к Лукаше с расспросами, откуда он, где прежде жил, есть ли у него семья и любит ли он свою семью. Лукаша отвечал охотно, добродушно, и как будто в морщинистых складках глаз блеснули слезинки. Царевич решился на следующее же утро переговорить с Лукашей и передать через него весточку Афросе.
XIX
В следующий день, девятнадцатого июня, царевичу не удалось поговорить с Лукашей. Утром приехали в крепость самые влиятельные члены верховного суда: светлейший князь Александр Данилович, граф Таврило Иванович Головкин, Иван Иванович Бутурлин и граф Петр Андреевич, а вслед за приездом последнего повели царевича в застенок.
Новый допрос царевичу состоял из четырнадцати вопросных пунктов, общий смысл которых ясно выразился в оглавлении: спросить царевича, все ли то правда и не поклепал ли кого в своих прежних повинных? В самых же раздельных пунктах указывалось на показание царевича о князе Вяземском, о духовниках, о князе Василии Владимировиче Долгорукове, о Нарышкиных, о царевне Марии Алексеевне, о Рязанском архиерее и о других. Спрашивалось, например, подтверждение показания на фельдмаршала Шереметьева о том, что когда-то Борис Петрович будто говорил царевичу: «Что-де не держит такого малого, который бы знался при дворе отцовском, чтоб ты все ведал». На князя Бориса Куракина в словах того царевичу. «Это де к тебе мачеха добра, покаместь у нее сына нет, а как сын будет, не такова будет». Или, например, на графа Мусина-Пушкина: «Есть ли де тебе полегче и пора покинуть, которую ты держишь?»
Более интересный и более новый вопрос в этом допросе был только один последний: когда имел надежду на чернь, не подсылал ли кого к черни о том возмущении говорить или не слыхал ли от кого, что чернь хочет бунтовать?
На все эти вопросы царевич показал только ссылкою на прежние свои ответы: «На кого-де я в прежних своих повинных написал и перед сенаторами сказал, то все правда, и ни на кого не затеял, и никого не утаил».

![Алексей Рюриков - 10 июня 1941 года [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)