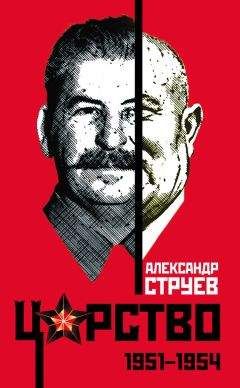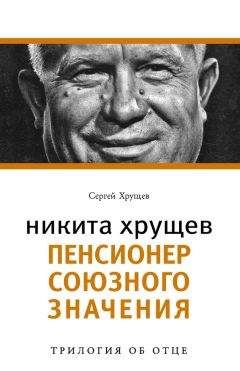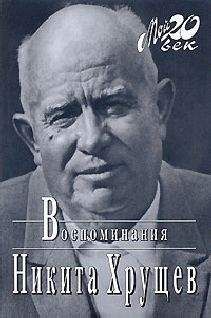Александр Струев - Царство. 1955–1957
— Ну, ты, бл…, мудак! Он один, а вас целая орава! Надо было живым брать, тогда бы настоящий бенефис заварили!
— Под водой муть жуткая, ничего не видно, мог уйти.
— Зачем убили, смысл какой?
— Я бойцами под водой не командовал, они по месту определялись. Думали, будет диверсионная группа в непонятном количестве.
— А была эта группа?
— Нет, группы не было.
— Вот так!
— Я вам, как было, передаю.
— А голову ему кто распорядился отрезать?!
— Посовещались и приняли такое решение. Думали, его так быстрее разные раки съедят, а если вдруг выловят, без головы-то не узнают. Мы его раздели, убедились, что особых примет не имеет, только зубы. А зубы, сами понимаете, по зубам сразу определят, чьи это зубы, ну и решили головы лишить. Зимин пилой отпилил. Вас-то на судне не было, кого спросить? Вот и приняли с адмиралом такое решение.
Хрущев недоумевал:
— Странно, что на части не разделали!
— Его уже мертвым на борт выволокли, — оправдывался председатель КГБ. — Он еще в воде помер, Зимин из ружья ему в живот угодил, потом маску с него бойцы содрали, баллоны с кислородом обрезали, захлебнулся водою. Со дна мы все пособирали, каждую мелочь, чтобы никто дурного о нас не подумал. Тело решили спрятать в холодильник, и где-нибудь в океане, когда отплывем подальше от английских берегов, выбросить. Если б труп рядом с крейсером всплыл, тогда бы точно на нас сошлось. Целая операция была проделана, чтобы мертвеца незаметно на камбуз перетащить.
— У тебя всюду операции. А кромсали где?
— В спецбоксе, откуда водолазов выпускаем. Там происходило. Раздевали там, осматривали, руки рубили, и голову соответственно. Оттуда и сбросили после, с чугунной чушкой в ногах.
— Чушка не выдаст? По ней мигом поймут, что русское производство.
— Без груза бросать нельзя, всплыл бы. Не переживайте, Никита Сергеевич, грамотно сделали, — успокоил Иван Александрович.
Хрущев смотрел на генерала с нескрываемым раздражением.
— Мы, Никита Сергеевич, официально к этому случаю отношения не имеем. Пропал человек и пропал, мы при чем?
— Я тебе щас как дам по рогам, не имеем! Еще и голову отпилили! — Хрущев подхватил бутылку. — Изувечили человека, руки оттяпали, аж тошно!
— Знаете, Никита Сергеевич, — заговорил Лобанов. — Я, конечно не ихтиолог, но могу утверждать, что в морях хватает хищников. Некоторые особи смело могут аквалангисту голову откусить.
Хрущев прямо опешил.
— Помолчали бы, Пал Палыч! Постеснялись бы чушь молоть!
— Ну, утонул человек, ведь никто его не нашел! — причитал Серов.
— Сам знаешь, что ищут повсюду, что тревогу бьют!
— Забудется эта история, очень скоро забудется! — вмешался Павел Павлович. — Через недельку страсти улягутся, а через месяц-другой и вспоминать про пропавшего перестанут. Несчастный, так сказать, случай, не больше. Что поделать, раз человека нет? Предлагаю картошечку есть, спеклась! — и аграрий, присев у остатков костра, выгреб наружу почерневшую, вкусно дымящуюся картошку. Чтобы не обжечься, он захватывал ее металлической миской, а потом выкатывал на стол.
— Начали за здравие, а кончили за упокой, вот как с этим визитом получилось, — устало проговорил Никита Сергеевич. — Наливай!
Неловко повернувшись и перехватывая у Первого Секретаря бутылку, Серов пролил.
— Держи крепче, садовая голова!
— Извиняюсь! — промямлил генерал армии.
— Многие хотят, чтоб как в романах происходило, а не получается, как в романах! — пожал плечами Лобанов. — Жизнь есть борьба за выживание! В природе выживает сильнейший и в человеческой жизни сильнейший, — разламывая черную от золы картофелину, заключил он.
Хрущев совершенно погрустнел. Подготовив себе закуску, Лобанов громогласно провозгласил:
— За верного продолжателя дела Ленина Никиту Сергеевича Хрущева! Побед, побед, побед!
— Напьюсь вдрызг, прям с ног упаду! — вымолвил Первый Секретарь.
28 мая, понедельникАрестованных, схваченных во время волнений в Грузии, оказалось много, около семисот человек. Прокуратура и органы внутренних дел заканчивали расследование, обвиняя по самым тяжким статьям Уголовного кодекса.
Оказавшись в тюремных застенках, многочисленные подследственные уже не верили в свою невиновность, понимали, что железная клетка захлопнулась и, может быть, навсегда. Многие изъявляли желание помогать следствию, помогать правительству, кому угодно и чем угодно, только бы загладить вину, выбраться на волю, а следствие, основываясь на незыблемых сталинских принципах — если в тюрьме, значит — виновен, пыталось при помощи перекрестных допросов, очных ставок и свидетельских показаний выявить корень зла, указать на преступное гнездо заговорщиков, вывести на чистую воду их гнусную организацию, наверняка связанную с западными спецслужбами. Именно так сформулировал ЦК официальную версию происшедшего. Но скоро в Кремле решили замять неприятный инцидент, переиначили версию о действующей в подполье агентурной сети, организовавшей массовые беспорядки, представив Тбилисские события в ином свете. Теперь утверждалось, что в бесчинствах виноваты не манифестанты и не разведслужбы зарубежных стран, а виной всему провокаторы-сталинисты, в прошлом сотрудники кровавого НКВД. Это они, отстраненные от работы, а значит и от кормушки, негодяи, подняли бузу, подтолкнули наивных граждан к выступлениям в поддержку авторитарной политики покойного вождя, спровоцировали простой народ на агрессивное неповиновение. Содержавшимся под стражей предложили подписать документ, где говорилось, что мир и порядок в Тбилиси был нарушен по нелепой случайности, что затесавшиеся в мирную демонстрацию сталинисты устроили провокацию, и тех, кто это подтверждал, отпускали на волю, мол, ЦК разобрался.
— Благодарите истинно ленинское руководство Центрального Комитета: Булганина, Хрущева и Ворошилова! — сурово выговаривали следователи.
Как молитву повторяли эти заветные имена. Но и Молотова упоминали, слишком громкий был у него авторитет, слишком многим, после смерти Сталина он стал близок.
Проморгав события в Тбилиси, чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах Первого Секретаря, Серов развил бурную деятельность. За несколько недель в Москве, Ленинграде, Киеве и Одессе Комитетом государственной безопасности были схвачены восемьдесят четыре человека, открыто высказывающихся против политики СССР, называя ее антинародной и бесчеловечной. Только в Литве раскрыли семь молодежных организаций, выступающих за освобождение республики из-под Советского ига. В эфире глушили позывные «Би-би-си» и «Голоса Америки», вслед за которыми откуда-то из зыбучих глубин появлялись разносящие крамолу радиоволны «Свободной Литвы», «Свободной России», а вторя им, тут и там зазвучали настырные голоса радиолюбителей, призывающих к свержению существующего порядка.
Хрущев ходил мрачный, как туча: серовская работа по выявлению многочисленных недовольных, а по существу врагов, его не обрадовала:
— Никаких снисхождений! Это ж надо, мы изо всех сил стараемся, а они по радио гундят!
Вот и получалось, что людей одной рукой выпускали, а другой начали сажать. Никита Сергеевич продолжал форсировать реабилитацию, но никак не соглашался смягчать инакомыслящим бунтарям наказания, велел концентрировать усилия на агитационно-массовой работе.
— Все беды от невежества, от нашей серости, — говорил он. — Народу надо суть через себя пропустить, переварить, переосмыслить, тогда примут новое, хорошее. А переделать человека приказом, угрозой, невозможно.
Партийный аппарат усиливал разъяснительную работу. Упор делался на ленинские принципы руководства. Утверждалось, что ленинские принципы разительно отличались от сталинских: они демократичны, приветствуют обмен мнениями, основываются на коллегиальности, привлекают в управление страной широкие слои населения, а любой антисоветский уклон, любое восхваление буржуазного образа жизни непримиримо каралось. Статьями в газетах, радиопередачами, кинофильмами, работой агитбригад и местных парторганов, Центральный Комитет хотел доказать, что государство — друг. Громче и настойчивей сообщалось об успехах промышленности, сельского хозяйства, с помпой открывались детские сады, школы, больницы, магазины, в последних, наконец, стало больше разнообразия. Народу обещали дополнительный выходной — субботу, в городах начали массово раздавать квартиры. На смену жесткому, безапелляционно-приказному порядку шла открытость, доступность. Начальство снизошло до простого человеческого общения, в глазах руководства появилась не наигранная заинтересованность, сердечность. Собирая толпы слушателей, на центральных площадях поэты читали стихи, глаза молодежи искрились вдохновением, задором. Пионеров и детвору помладше отправляли в летние лагеря, содержание которых взяло на себя государство. На предприятиях чествовали ветеранов и передовиков, вручали им грамоты и ценные подарки.